Сергей Маковский - Год в усадьбе
Апрель («Набухли почки верб, и перелески…»)
Набухли почки верб, и перелески
в проталинах давным-давно цветут.
Озябших трав подснежный изумруд
и неба синь так вдохновенно-резки!
Теплеет солнце, гуще занавески
отмерзших рощ. И лютик тут как тут,
и над черемухой пчелиный гуд,
и жаворонок вьется в горнем блеске.
День целый птичий гам. Уж возле гнезд
щеглы, чижи, малиновки запели.
Щебечут ласточки, скворец и дрозд трещат…
И соловьи при свете звезд,
неискушенные еще в апреле,
порой и невпопад заводят трели.
Май («Я был на кладбище. И там весна…»)
Я был на кладбище. И там весна:
ирис, жасмин, сирени белой дымы,
и ландышем (цветок ее любимый)
весенняя могила убрана.
Стрекозы легкие носились мимо
и золотом звенела тишина…
Здесь, под крестом берестовым, она
уснула навсегда, непостижимо.
Я помню все. Но ты, забыла ль ты,
не отданная мне ревнивым раем,
любовь мою и слезы и мечты,
отцветшие когда-то вместе с маем?
И мне в ответ могильные цветы:
— Мы любим, оттого что умираем.
Послесловие («Все призрачно в дыму отшедших дней…»)
Все призрачно в дыму отшедших дней,
но, Боже мой, как безнадежно-явно!
И быль, и сон — давно и так недавно.
Тем сладостнее «вспомнить и больней…
О, как жива моя тоска по ней,
еще вчера и близкой, и державной,
и вот — чужой, безрадостной, бесславной,
покорно тонущей в крови своей.
Россия, Русь! Тебе ли роковая,
предвещанная гибель суждена?
Или стоишь у врат, еще не зная?
Тяжка пред Господом твоя вина, —
слепая, страшная, но все — живая
и все любимая, навек одна.
Ржевница. 1920
СКЕЛЕ
Был пасмурный февраль, всходила чуть трава,
белели в порослях подснежники лесные,
пустынный вечер гас и золотил едва
крутые скаты гор и тучи дождевые.
Местами на камнях весенний таял лед,
и было холодно. Шумел поток в ущелье.
Измаянный тщетой томительных невзгод,
не радуясь весне, я брел на новоселье.
Куда? Не все ль равно! Я шел вперед, вперед,
к мешку дорожному приучивая спину,
туда, где не было южнобережных вод,
через Шайтан-Мердвен в Байдарскую долину.
Без цели, наугад — скорей, куда-нибудь!
Дубы корявые, ободранные буки,
как злые нищие, мне преграждали путь,
шипы кустарников кололи больно руки.
Все выше между скал обрывистых тропа.
Вот — перевал, и вниз кремнистая дорога,
и снова хилый лес и камни и толпа
коряг обугленных, черневших так убого…
И вдруг — о, волшебство! — передо мной простор,
согретый ласковым, лучисто-нежным югом,
и в золоте зари чуть видимый узор
холмов, раскинутых широким полукругом…
Как хорошо… О, нет, нет никогда во сне
простор не грезился чудесней и безбрежней,
и Божья красота не улыбалась мне
спокойнее, добрей, блаженно-безмятежней!
Прохладная изба. Из окон вдовий двор, —
колодезь, клумбы роз, табачные сараи,
соседок за стеной нерусский разговор,
индюшек и гусей рассыпанные стаи…
Все, все отрадно здесь, милей день ото дня:
оладьи на обед и к ужину султанка,
и эта пасека у ветхого плетня,
и хлопотливая красавица гречанка, —
ее рассказ о том, как нынче трудно ей
управиться одной с работой деревенской,
и выводок пяти подростков-дочерей,
смущающих меня задумчивостью женской…
Страдою полон день. С утра и млад и стар
в чаирах боронит и поливает гряды.
Не умолкает скрип нагруженных мажар,
свершаются труды, как тихие обряды.
Не налюбуешься! По заросли брожу —
все тропы исходил. В Узундже и Саватке
друзей моих, татар, я навещать хожу:
люблю наряды их и гордые повадки,
неторопливый пляс на свадебных пирах
и верность древнюю гостеприимства праву,
«селямы» важные и в сакле, на коврах —
степенный разговор и кофий по уставу.
Настанет вечер. Тишь. Кузнечик заскребет,
у завитых плетней — играющие дети.
Угрюмый муэдзин на минарет идет,
и молча старики присели у мечети.
Отчетливо звенят гортанные слова
в вечернем воздухе, протяжные как стоны.
Им вторит иногда, вдали, едва-едва
церковный колокол. И вместе плачут звоны…
Все ниже солнце. Вот в огне его луча
холмов песчаные порозовели склоны
и гаснут. В сумерках, отрывисто мыча,
понурые бредут волы в свои загоны.
И дружною толпой, окончив страдный день
в окрестных табаках, работницы-хохлушки
пройдут по зеленям и, уплывая в тень,
затянут вольные, знакомые частушки.
И Русью вдруг пахнет, и сердце защемит…
Уйти бы вдаль — туда, в раздолья ветровые,
где не избыть ни слез, ни крови, ни обид.
Отечество, прости! Воскреснешь ли, Россия?
Весна давно прошла. Отпели соловьи,
кукушка за рекой и та откуковала,
и вылетели пчел мятежные рои,
веселой зеленью долина заиграла.
Короче солнца путь и жарок летний прах,
повысохли ручьи на дне ущелий сирых,
черешня дикая поспела на горах,
и яблони цвели и отцвели в чаирах.
Как скоро! Поглядишь: румянятся плоды
и пухнет помидор в соседнем огороде,
желтеют пажити, огромные скирды
насупились в полях. Уж лето на исходе!
Но так же все горят и нежат небеса,
и рано-порану туманы гор колдуют,
и по краям ложбин кудрявятся леса,
и в рощах горлицы без умолку воркуют.
Все той же музыки мечтательной полна
краса осенняя твоих угодий, Скеле, —
и утра благовест, и ночи тишина,
и звоны полудня, и вечера свирели…
Скеле у Байдар. 1919.
Нагарэль. Сонеты
Памяти Н.С. Гумилева
I. «Нет, — больше, сударь! Шестьдесят четыре…»
Нет, — больше, сударь! Шестьдесят четыре.
Уж двадцать два — на Флоре капитан.
А раньше: Грек, Меркурий, Океан…
Да, старость не на радость в Божьем мире.
Удушье, знобь, не голова: чурбан.
Ногами тоже плох, со сна — что гири.
Немудрено. По кругосветной шири
намаешься в ненастье и туман!
Зато и пожил. Sacramente… споро.
Где не бывал, что песен да вина!
А женщины! Послушай, старина…
Но крепче всех запомнилась одна:
плясунья из таверн Сан-Сальвадора,
креолка, Нагарэль, дочь матадора.
II. «Извольте, расскажу. Хоть забулдыга…»
Извольте, расскажу. Хоть забулдыга,
поверьте на слово: не врал досель.
Что было, сударь, было. Нагарэль…
Оглянешься, и память — словно книга.
Ну-с, в ту пору уж несколько недель,
у Бахии, на палубе Родрига,
испанского сторожевого брига,
я проклинал тропический апрель.
Зной, ливень, штиль. По вечерам из порта —
и музыка, и песни. Как дурак,
ночь напролет стоишь, стоишь у борта,
в уме прикидываешь так и сяк,
и отпуска, бывало, ждешь до черта.
Однажды утром… Чокнемся, земляк!
III. «Однажды: Юнга, — слышу голос, — в рубку!..»
Однажды: «Юнга, — слышу голос, — в рубку!»
Бегу. А капитан (старик, добряк
и пьяница, да трезвый — не моряк)
глядит хитро, пожевывает трубку.
«Что ж, твой черёд!» — и показал на шлюпку.
Весь день в порту, из кабака в кабак,
брожу с матросами, курю табак
и вздрагиваю, как завижу юбку.
Тогда же под вечер в таверне «Крот»
и встретились… Ну, подмигнул украдкой.
Пришла, подсела, черным глазом жжет.
Молчит… И вдруг, змея, прильнула сладко
и на тебе! — поцеловала в рот.
Так началось. А кончилось… не гладко.
IV. «Да, началось. На долгую беду…»
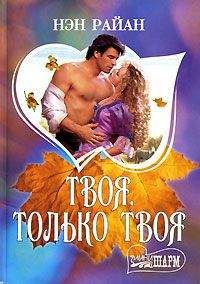

![Анатолий Радов - Холодная кровь [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)