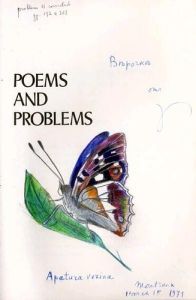Владимир Набоков - Poems and Problems. Poems
13. Расстрел
Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнет в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.
14. От счастия влюбленному не спится
От счастия влюбленному не спится;
стучат часы; купцу седому снится
в червонном небе вычерченный кран,
спускающийся медленно над трюмом;
мерещится изгнанникам угрюмым
в цвет юности окрашенный туман.
В волненье повседневности прекрасной,
где б ни был я, одним я обуян,
одно зовет и мучит ежечасно:
на освещенном острове стола
граненый мрак чернильницы открытой,
и белый лист, и лампы свет, забытый
под куполом зеленого стекла.
И поперек листа полупустого
мое перо, как черная стрела,
и недописанное слово.
15. Лилит
Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.
Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
«Добро, я, кажется, в раю».
От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы — и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.
И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула — и на мне
одежды вспыхнули и разом
испепелились.
В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты,
и в вольной росписи стена.
Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за пламя:
«Сюда», — промолвила она.
Без принужденья, без усилья,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил, —
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула и, ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и, полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался
и ринулся и зашатался
от ветра странного. «Впусти», —
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
«Впусти», — и козлоногий, рыжий
народ все множился. «Впусти же,
иначе я с ума сойду!»
Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.
16. К музе
Я помню твой приход: растущий звон,
волнение, неведомое миру.
Луна сквозь ветки тронула балкон,
и пала тень, похожая на лиру.
Мне, юному, для неги плеч твоих
казался ямб одеждой слишком грубой.
Но был певуч неправильный мой стих
и улыбался рифмой красногубой.
Я счастлив был. Над гаснущим столом
огонь дрожал, вылущивал огарок;
и снилось мне: страница под стеклом
бессмертная, вся в молниях помарок.
Теперь не то. Для утренней звезды
не откажусь от утренней дремоты.
Мне не под силу многие труды,
особенно тщеславия заботы.
Я опытен, я скуп и нетерпим.
Натертый стих блистает чище меди.
Мы изредка с тобою говорим
через забор, как старые соседи.
Да, зрелость живописна, спору нет:
лист виноградный, груша, пол-арбуза
и — мастерства предел — прозрачный свет.
Мне холодно. Ведь это осень, муза.
17. Тихий шум
Когда в приморском городке,
средь ночи пасмурной, со скуки
окно откроешь, вдалеке
прольются шепчущие звуки.
Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.
Весь день невнятен шум морской,
но вот проходит день незванный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной.
И вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире,
и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире.
Не моря шум — в тиши ночной
иное слышно мне гуденье:
шум тихий родины моей,
ее дыханье и биенье.
В нем все оттенки голосов
мне милых, прерванных так скоро,
и пенье пушкинских стихов,
и ропот памятного бора.
Отдохновенье, счастье в нем,
благословенье над изгнаньем.
Но тихий шум не слышен нам
за суетой и дребезжаньем.
Зато в полночной тишине
внимает долго слух неспящий
стране родной, ее шумящей,
ее бессмертной глубине.
18. Снег
О, этот звук! По снегу —
скрип, скрип, скрип —
в валенках кто-то идет.
Толстый крученый лед
остриями вниз с крыши повис.
Снег скрипуч и блестящ.
(О, этот звук!)
Салазки сзади не тащатся —
сами бегут, в пятки бьют.
Сяду и съеду
по крутому, по ровному:
валенки врозь,
держусь за веревочку.
Отходя ко сну,
всякий раз думаю:
может быть, удосужится
меня посетить
тепло одетое, неуклюжее
детство мое.
19. Формула
Сутулится на стуле
беспалое пальто.
Потемки обманули,
почудилось не то.
Сквозняк прошел недавно,
и душу унесло
в раскрывшееся плавно
стеклянное число.
Сквозь отсветы пропущен
сосудов цифровых,
раздут или расплющен
в алембиках кривых,
мой дух преображался:
на тысячу колец,
вращаясь, размножался
и замер наконец
в хрустальнейшем застое.
в отличнейшем Ничто,
а в комнате пустое
сутулится пальто.
20. Неоконченный черновик
Поэт, печалью промышляя,
твердит прекрасному: прости!
Он говорит, что жизнь земная —
слова на поднятой в пути —
откуда вырванной? — странице
(не знаем и швыряем прочь)
или пролет мгновенный птицы
чрез светлый зал из ночи в ночь.
Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть.
21. Вечер на пустыре
Вдохновенье, розовое небо,
черный дом с одним окном
огненным. О, это небо,
выпитое огненным окном!
Загородный сор пустынный,
сорная былинка со слезой,
череп счастья, тонкий, длинный,
вроде черепа борзой.
Что со мной? Себя теряю,
растворяюсь в воздухе, в заре;
бормочу и обмираю
на вечернем пустыре.
Никогда так плакать не хотелось.
Вот оно, на самом дне.
Донести тебя, чуть запотелое
и такое трепетное, в целости
никогда так не хотелось мне…
Выходи, мое прелестное,
зацепись за стебелек,
за окно, еще небесное,
иль за первый огонек.
Мир, быть может, пуст и беспощаден,
я не знаю ничего,
но родиться стоит ради
этого дыханья твоего.
Когда-то было легче, проще:
две рифмы — и раскрыл тетрадь.
Как смутно в юности заносчивой
мне довелось тебя узнать.
Облокотившись на перила
стиха, плывущего, как мост,
уже душа вообразила,
что двинулась и заскользила
и доплывет до самых звезд.
Но, переписанные начисто,
лишась мгновенно волшебства,
бессильно друг за друга прячутся
отяжелевшие слова.
Молодое мое одиночество
средь ночных, неподвижных ветвей;
над рекой — изумление ночи,
отраженное полностью в ней;
и сиреневый цвет, бледный баловень
этих первых неопытных стоп,
освещенный луной небывалой
в полутрауре парковых троп;
и теперь увеличенный памятью,
и прочнее, и краше вдвойне,
старый дом, и бессмертное пламя
керосиновой лампы в окне;
и во сне приближение счастия,
дальний ветер, воздушный гонец,
все шумней проникающий в чащу,
наклоняющий ветвь наконец,
все, что время как будто и отняло,
а глядишь — засквозило опять,
оттого что закрыто неплотно,
и уже невозможно отнять.
Мигая, огненное око
глядит сквозь черные персты
фабричных труб на сорные цветы
и на жестянку кривобокую.
По пустырю в темнеющей пыли
поджарый пес мелькает шерстью снежной.
Должно быть, потерялся. Но вдали
уж слышен свист настойчивый и нежный.
И человек навстречу мне сквозь сумерки
идет, зовет. Я узнаю
походку бодрую твою.
Не изменился ты с тех пор, как умер.
22. Безумец