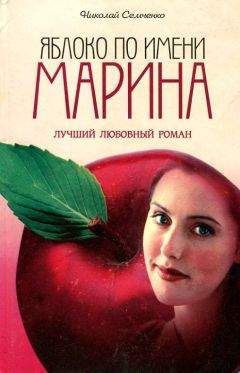Мирослав Валек - Прикосновения
Притяжение
Солнце
(Перевод Б. Окуджавы)
Хлеба желтеют.
Солома для шляп дозревает прекрасно.
День словно создан расцвечивать глушь.
Сонные дятлы выстукивают согласно
о спасении душ.
В белесом воздухе
утопает лес,
у влюбленных в лесу
бледные лица…
Солнце с уксусом — это питье,
еда — кислица…
Годы считают по пальцам, радуются:
долгое будет житье.
Лес голубой. Но тучи слетелись к нему,
но молнии вспыхнули, но земля загудела.
И сосны ударились лбами,
укрываясь во тьму,
и армия леса
от ужаса вдруг поредела.
А я бы тебе летних гроз скупил,
чтоб молния кроткая
средь них бродила.
Может, на хлеб бы я не скопил,
на солнца кусок
у меня б хватило.
Все тебя любят.
Всех ты, радуя,
одариваешь с руки…
Когда ты смеешься — восходит радуга,
куда ты ступишь — бьют родники.
Для шляп
солома прекрасно зреет.
Колышутся желтые волны.
А я
с непокрытой хожу головой, муками полной.
Родина — это руки, на которых ты можешь плакать
(Перевод Ю. Левитанского)
Об этом как раз говорили, когда погиб Иван Грозный,
учитель истории с вечно печальным лицом.
Он кончил самоубийством, не заплатив за квартиру.
Так и висел он,
так и висел этот уличник
и целому миру язык показывал,
это ему не простится.
Лицом к улице, пятками к двери,
словно некто вошедший и спрятавшийся в портьере,
с головой, наклоненной, чтоб избежать удара,
а под ногами — воздух, целая охапка.
О, подстилайте им воздух, тем, кто уходит,
полными пригоршнями стелите душистый воздух,
который отделяет их от земли.
Туда они складывают боль свою и надежды, словно одежды,
на воздух, на чистую его ржаную солому.
Когда б ходил бы некто, так висевший,
он качал бы головою страшно,
он звенеть бы должен был ужасно.
Я каждый день завязываю галстук,
после звонка я оставался в классе.
Помню, он постоянно обращал наше внимание на удивительную последовательность исторических событий — и в самом деле, уже в 1638 году умер Иоган Альтгаус, староста эмденский, всю свою жизнь развивавший мысль о превосходстве народа, а 300 лет спустя что-то такое случилось с границами нашего государства. Так оно, несомненно, и есть, как он нам говаривал: историю творит сила личности, а обстоятельства — они лишь способствуют воле гения.
Но мне в ту пору было все безразлично.
Я увлекался футболом
и любил Елену Данькову из 3 «Б».
Уже перед Второй Пунической войною мы тайно держались за руки,
а через семь страниц я уже чувствовал,
что запах, идущий от нее, — это запах
корицы с небольшим добавленьем укропа.
Во время гимнастики мы усаживались на подоконник,
болтали ногами
и слушали монотонную песню:
«…Gallia est omnis divisa…»
Тогда я еще не ведал о том, что случится вскоре,
и не видел, как жизнь поворачивается к нам спиной.
Однажды я дверь отворил в класс, и ее там не было,
и стоял я на красном полу,
как в горящей траве.
В этот день несла она свое чешское имя в Прагу.
Я думал, что это судьба или воля богов,
нечто такое,
как внезапное паденье яблока на острие ножа,
но суть была вовсе не в этом.
Любовь тринадцатилетняя тоже имеет свою историю,
кровавую
и грустную, как вода.
Вижу ее сегодня,
маленькие ее ноги в красных сандалиях,
покрытых пылью дорог. —
растут пионы корнями кверху,
флаги развеваются под цветами.
Пёши, пёши, пёши…
На лице лежат руки.
В конце-то концов,
ни к чему оно было, красивое чешское имя.
И разонравилась многим оливковая ее кожа
и волос ее синеватый отлив,
напоминающий пистолетное дуло.
За готическими окнами епископской гимназии
мы постигали таинство вечной истины:
«Memento, horno, quia pulvis es
et in pulverem reverteris…»
Вот как она превратилась однажды в пыль.
События далее развертывались вполне нормально. Поскольку историю творит сила личности, а обстоятельства лишь помогают выявиться воле гения, решили себе Франтишек Капланек, шофер из Красного Креста, а также ему подобные, каждый с каплею чужой крови в свидетельстве о рождении, что они изменят ход мировых событий в местном масштабе. В этой связи я вспоминаю некое стихотворение, несколько сентиментальное. Я слышу, в нем бьются ночные бабочки о стекло, как дождь и каменья.
Однако в ту пору,
ночами полного затемненья луны и звезд,
люди услышали нечто иное,
недоступное слуху:
шелест песка в оконном стекле,
отчаянное усилье стола
с полом срастись,
и не двигаться,
и кроной шуметь
и внезапно потом
в темните
резкий выкрик свечей.
О покорное тихое братство ключей,
не выдай руке тот ключ, что откроет.
Безумная ночь на крыше сидит
и высвистывает на дырявой трубе,
бузина боязливо запела в садах.
Пересилить тот страх,
дверь отворить
и видеть, что происходит!
Мама! Мама!
На лестнице сапоги.
Потом посуду мыла жестяную —
ту славу их воскресного обеда
(одна тарелка оставалась чистой).
Потом цветы исправно поливала,
мела полы,
до блеска терла стекла,
и век пустыми были ее руки.
Разглядывала их вечером у лампы
с удивленьем,
прикладывала их к себе и отводила,
прикладывала, отводила.
Что было между ними, никому не говорила.
Это и было именно то превосходство народа:
руки, руки.
Руки, взывающие о помощи,
те черные стволы в лесу сожженном,
где светлой иволге взлететь не светит,
лишь ветер-дурачок
подъемлет крышу пепла.
Прошло это,
исчезло навсегда,
но остается в горле горький вкус
миндалинок проглоченных
и соли.
Слеза и кровь.
Ты, милая, не плачь.
Пойдешь однажды в школу,
и будут спрашивать тебя.
Но ты им скажи: не знаю.
Моя память — это зеркало,
затуманенное чьим-то дыханьем.
Не помню.
Будет старый колодец,
и будет ведерко крови.
Ты ее не пей.
Кровь Освенцима,
кровь Кремнички,
кровь Лидице.
Кровь — не водица,
ты ее не пей.
Любовь и тринадцатилетняя имеет свою историю,
кровавую и грустную, как вода.
Не плачь, милая,
тебе не дожить до этого,
ты не плачь.
Я куплю тебе глобус, что красиво так вертится,
и начнем путешествовать.
Семь мертвых океанов подмывают берега памяти.
Семь мертвых океанов, связанных цепью.
Но там,
на расстоянье руки,
черные лампы звезд.
Дождь идет.
Вода на лице одинокая.
Франтишек Капланек, шофер из Красного Креста, и ему подобные
смотрят на нас
и ногами топочут,
как злые детишки на загородной прогулке,
и громко кричат:
Нам тут холодно.
Дождь идет.
Домой нам охота.
Родина — это вода ледяная в кувшине, покрытом росою.
Родина — это тяжелые руки, лежащие на столе
в воскресной тиши, наступающей после работы,
пустые и ждущие,
всемогущие,
те единственные, которыми творится история.
Родина — это руки, на которых ты можешь плакать.
Они спрячут лицо твое, мокрое от слез и от пота.
Они могут тебя приласкать, защитить и согреть.
Но могут еще положить эти пальцы на горло и стиснуть.
Каждый день я повязываю галстук,
каждый день я думаю об этом.
Ослепление