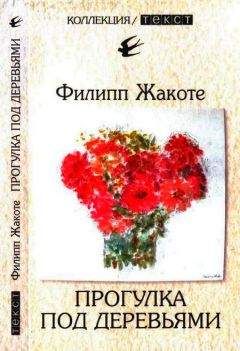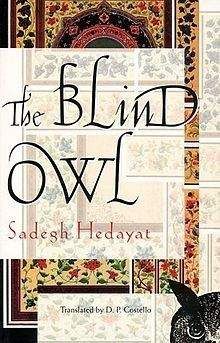Наум Коржавин - На скосе века
Беспредельная, «бесстыдная» полнота самовыявления (бывает, что не нужны и кавычки), «лицо», которое часто важнее, и уж во всяком случае притягательнее «искусства», важнее «Тайны», когда Блок, не стесняясь, рисует себя пригвождённым к трактирной стойке, Есенин — пьяницей и хулиганом, Маяковский предстаёт любовником не дамы «вообще», а паспортно поименованной Л. Ю. Брик, — это, конечно, «верность себе», понимаемая буквально. Свобода — или её иллюзия.
Свобода — от чего? От кого? От многого, что, естественно, прежде всего проявляется эстетически — как свобода от читателя. И вот тот же Блок вызовет у критика Чуковского недоумение, что означают строки: «Сижу за ширмой. У меня такие крохотные ножки…» — и лишь сам поэт разъяснит ему, что тут подразумевается Кант со своей «Критикой чистого разума». «…Но кто же из читателей, — спросит влюблённый в Блока и оттого благодушный Корней Иванович (иному бы не спустил), — мог догадаться, что оно написано о Канте?» А кто из возмущавшихся или восхищавшихся строчками Брюсова: «Всходит месяц обнажённый при лазоревой луне…» знал, что у экстравагантности банальное, бытовое происхождение? Кажется, напротив брюсовской квартиры было здание бань, на фасаде которого и красовалась луна. Что-то вроде этого…
Так Тайна сменялась загадкой. Ребусом. Игрой в отгадайку. Уже до предела и без предела капризничающей субъективностью, которая, дешевея, размениваясь, являлась теперь не на уровне гениального Блока или хотя бы «героя труда» (цветаевское словцо) Брюсова, а на уровне Кирсанова, Вознесенского. Под псевдонимами «сложность» и «современность». И всё это — в целом — конечно, не предопределило раз навсегда развитие поэзии XX века, но поставило поэтов, больших и малых, перед выбором, делать который приходилось единожды, а доказывать его правоту подчас всю жизнь.
Что до ребусов, к ним Коржавин не имел ни малейшей склонности и в юные годы. Но иллюзия, что «верность себе» есть действительно «высшая», им владела. Бог меня упаси упрекать его за это задним числом — да и за что? За замечательное стихотворение того же 44-го, где юноша, успевший наглядеться и наслушаться, «когда насквозь неискренние люди нам говорили речи о врагах…», бросал им — только ли им? не всему ли погрязшему в фальши окружному миру? — вызов:
Романтика, растоптанная ими,
Знамёна запылённые кругом…
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом.
Или: «Мне каждое слово будет уликою минимум на десять лет…Я сам всем своим существованием — компрометирующий материал!»
Коржавин был таким, каким только и мог быть, каким ему надо было быть, — а в его понимание поэзии всегда входило жёсткое ощущение этого «надо». Он был поэтом отчаянного вызова, противостояния, поэтом борьбы (которую я осмелюсь доморощенно определить как героическую форму несвободы — ведь человек освобождающийся ещё не свободен). Был поэтом независимости, которую отвоёвывал и возвысил до уровня «высшей верности»; стал поэтом существования. То есть — многообразной зависимости. Стал или хотел стать?
Вопрос не совсем праздный.
Устойчивость внутреннего существования — о внешнем что говорить? — вот то, о чём Коржавин всегда тосковал. Будь то порою хотя бы и очередная иллюзия, которая разочаровывала, не переставая из- за этого быть ностальгически милой.
Я с детства мечтал, что трубач затрубит,
И город проснётся под цокот копыт,
И всё прояснится открытой борьбой:
Враги — пред тобой, а друзья — за тобой.
Сознание нереальности романтической мечты, но и… Ну не то чтоб надежда, которой, говорю, сбыться не суждено, однако само отрезвление по-своему оптимистично; как говорим, «конструктивно»:
А может, самим надрываться во мгле?
Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле.
И напротив, из самых-самых скорбных коржавинских строк — написанные в карагандинской ссылке о (казалось, всего лишь) «бледном, зелёном, сухом наряде высаженных аллей», о листьях, которые «сохнут, не пожелтев, вянут, — а зелены». Сохнущая зелень деревьев, принуждённых, как люди, жить не там, где им надо бы жить, — образ биографически выстраданный, но имевший право быть образом общей бездомности, зыбкости, выморочности. Ибо привязанность к жизни и быту, даже прямая от них зависимость — то, в чём, считает Коржавин, нуждается дух:
В наши трудные времена
Человеку нужна жена,
Нерушимый уютный дом,
Чтоб от грязи укрыться в нём.
Прочный труд, и зелёный сад,
И детей доверчивый взгляд,
Вера робкая в их пути
И душа, чтоб в неё уйти.
В наши подлые времена
Человеку совесть нужна,
Мысли те, что в делах ни к чему,
Друг, чтоб их доверять ему.
Чтоб в неделю хоть час один
Быть свободным и молодым.
Солнце, воздух, вода, еда —
Всё, что нужно всем и всегда.
И тогда уже может он
Дожидаться иных времён.
Я не знаю у Коржавина иных стихов, в которых он бы так выговорился.
Человек с таким духовным инстинктом домостроительства не мог не начать строить дом в себе. (Совсем не прямой аналогии ради напомню, что писал Ю. М. Лотман о «домостроительстве» Пушкина: «История проходит через Дом человека, через его частную жизнь…Дом, родное гнездо получает для Пушкина особенно глубокий смысл. Это святилище человеческого достоинства и звено в цепи исторической жизни. Это крепость и опора в борьбе с булгариными…») Вот и наш Коржавин строил свой Дом — строил тогда, когда надежды на реальный дом с крышей и кубатурой не было, так что даже временное ссыльное жильё торопилось притвориться Домом. При всей ясности сознания: «Стопка книг… Свет от лампы… / Чисто… Вот сегодняшний мой уют. / Я могу от осеннего свиста / ненадолго укрыться тут».
Но то, во что почти и не верилось, пришло, стало реальностью; от счастливой любви до своей квартиры. Биография (упираю на это слово) начала входить в колею, вошла, и стихотворение 1967 года с объясняющим названием «Новоселье» говорит наконец о счастье, проснувшись, видеть из окон своей новостройки как символ полной и окончательной устойчивости деревенские дома, пока ещё не снесённые бульдозером…
Минуту! Пока ещё не?.. Так устойчивости или наоборот?
Да. Судьба сопротивляется столь удачно складывающейся биографии. С удивительной неотвратимостью счастливая лёгкость этого стихотворения, словно стыдящаяся себя самой, будет брюзгливо опровергнута другими стихами — даже не соседствующими, а являющимися второй частью диптиха «Новоселье». Сказал бы: будто сочинёнными другим человеком, — если бы особенностью именно этого человека не было совмещать мечту об устойчивости с постоянным её отторжением.
То ль чистый план, то ль чистый бред.
Тут правит странный темперамент.
Стоят вразброс под номерами
Дома, — дворов и улиц нет.
Ведь и пейзаж не успел измениться — отчего ж так?
К чему тут шум дворов больших?
О прошлом память? — с ней расстанься!
Дверь из квартиры — дверь в пространство,
В огромный мир дворов чужих.
И ты затерян — вот беда.
Но кто ты есть, чтоб к небу рваться?
Здесь правит равенство без братства.
На страже зависть и вражда.
(Между прочим: неожиданное самоощущение как бы исконно деревенского жителя, занесённого в пугающий вавилон одиночеств.)
«Дверь в пространство»… Предчувствие надвигающейся эмиграции? Ужас новой бездомности? Новой — или всегдашней?
Как бы то ни было, само пространство родит не воздух, а удушье.
Страх — не взлёт для стихов.
Не источник высокой печали,
Я мешок потрохов! —
Так себя я теперь ощущаю.
Страх — и стыд. Когда даже жильё, наконец обретённое, будит чувство вины, неважно что безвинной:
Мы испытали всё на свете.
Но есть у нас теперь квартиры —
Как в светлый сон, мы входим в них.
А в Праге, в танках, наши дети…
Но нам плевать на ужас мира —
Пьём в «Гастрономах» на троих.
Год, как нельзя не понять, 1968-й, но ведь и много, много раньше, в юношеском, чуть ли не самом зацитированном его стихотворении Коржавин, тоскуя, что «никто нас не вызовет на Сенатскую площадь», что «настоящие женщины не поедут за нами», страшился как раз исторической бездомности. Болел болезнью — и боязнью — отщепенства, на него-то всё время напарываясь. Чуть не напрашиваясь.
Рядом с теми, знаменитейшими стихами — и то самое «хотелось быть врагом», и про мерзавца, укрывшегося за красным знаменем, «а трогать нам эти знамёна — нельзя», и т. д. и т. п., — всё то, что по тогдашнему времени вполне безошибочно определялось как антисоветчина. Анти… Но тоска — или предчувствие зрелой тоски, которая поведёт за собой коржавинскую судьбу, круша его наладившуюся биографию, — то, что выше героического «анти». Во всяком случае — вне, И что означает? Не знаю. Может, трансформацию великорусской мечты об «убёге» в поисках правды-истины Муравии иль Белогорья, может, еврейскую бездомовность, может, то и другое вместе, — но даже сама эмиграция Коржавина всем этим была подготовлена и решена.