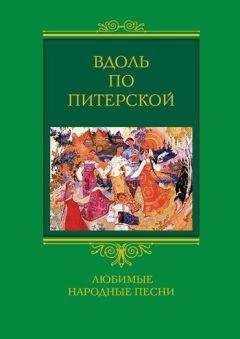Александр Владимирович Соболев - Бухенвальдский набат
Велик же был талант, отпущенный Богом моему покойному супругу, если в невежественной обывательской среде родительского дома, в годы горького сиротства, бесприютной юности, ранней фронтовой инвалидности не погиб он, не струхлявила его чистая душа, от природы не восприимчивая ни к чему дурному. Победил, «приподнял асфальт», одолел губительный пресс неблагоприятных житейских обстоятельств.
Его литературный дебют состоялся в год окончания школы. На выпускном вечере самодеятельный драмкружок показал спектакль по его пьесе с «архиреволюционным» названием «Хвосты старого быта».
Вскоре умерла его мать. В дом пришла мачеха. И пятнадцатилетний подросток, оставив отчий дом, направился в Москву. В его плетеной дорожной корзинке лежала тетрадь первых стихов и две пары латаного белья. Отец сына не удерживал, дал 30 рублей на дорогу и «обзаведение» и посчитал на этом родительские обязанности исчерпанными.
Жившей в Москве старшей сестре осиротевший брат был в тягость. Ее скептицизм по отношению к его поэтическому дарованию не поколебал даже визит к ней известного в те времена литературного критика (я не запомнила фамилию, которую называл А.В.), усмотревшего в беспомощных стихах мальчика задатки поэта. Младший брат был устроен в школу ФЗУ (на базе средней школы). Окончив ее, стал слесарем, то есть мог сам зарабатывать себе на хлеб насущный.
А потом было так, как и должно было быть, о чем сказал Александр Соболев уже в зрелые годы: «Талант не даст человеку покоя. Не человек выбирает судьбу, а талант ведет его по жизненной колее. Непременно такой путь будет труден, но честен, потому что, чем выше степень таланта, тем более честен им наделенный, тем менее способен он на уступки обстоятельствам, на приспособленчество и предательство».
Молодого слесаря неодолимо тянуло в литературную среду. Сперва это было литобъединение при многотиражке механического завода, где он работал, потом городская газета, куда он приносил пока не стихи, а корреспонденции. И настал день, когда он расстался с цехом, перешел на работу в газету. Но стихов почти не писал. Тогда требовалась литпродукция определенного толка. А у него душа не лежала славить партию большевиков и лучшего друга всех народов после коллективизации на Украине, реализацию которой довелось наблюдать его отцу, успевшему сбежать из родных мест в Подмосковье.
Да и позже, за всю свою жизнь не посвятил Александр Соболев Сталину ни единой строки со знаком «плюс». Учитывая идеологические установки тех лет, допустимо считать, что именно по этим причинам он не утвердился в свое время как поэт, не занял «свою нишу» в довоенные годы.
В 1944 году после ранений и контузий был демобилизован. И сразу же мобилизован на работу в оборонную промышленность, на авиамоторный завод № 45. Сначала работал в литейном цехе, потом был востребован в многотиражку, где почти немедленно организовал сатирическую рубрику «Ведет разговор дед Никанор». «Деда» ждали в цехах, недолюбливали в среде управленцев. Развязка наступила скоро. Новый редактор из партаппаратчиков убрал с полос газеты «деда Никанора» и уволил по сокращению штатов его «родителя». И хотя увольнять инвалида войны по такой статье советским законом запрещалось, партия в образе парткома и райкома оказалась, по обыкновению, выше закона.
Конфликт дорого обошелся бывшему фронтовику. Резко ухудшилось здоровье, последовали почти пять лет странствий по госпиталям. Он завершил эти вынужденные скитания получением справки ВТЭК, где графа «трудовая рекомендация» осталась незаполненной, что означало запрет на любой вид штатной работы.
Во всей своей неприкрашенной реальности обозначилась перед Соболевым перспектива дней, месяцев, возможно, лет изоляции от людей, нескончаемый поединок с недугом, где человеку приходилось порой очень плохо. Только временами болезнь отступала, появлялась жажда деятельности... Но какой? Кто, где ждал его? О газетной штатной работе можно было только мечтать. И не только из-за запрета медиков. В то время, в начале пятидесятых,
О нет, не в гитлеровском рейхе,
а здесь, в стране большевиков,
уже орудовал свой Эйхман
с благословения верхов...
... Не мы как будто в сорок пятом,
а тот ефрейтор бесноватый
победу на войне добыл
и свастикой страну накрыл.
«К евреям Советского Союза»
Инструктор горкома партии, к которому журналист Соболев обратился с просьбой о трудоустройстве в газету, спросил его, пряча улыбку: «Почему бы вам не пойти в торговлю?» Это следовало понимать так: почему бы тебе не заняться еврейским делом и не лезть на престижную журналистскую работу...
Слава Богу, не переводятся на Руси добрые люди. Бывшие коллеги Соболева, газетчики еще довоенных лет, симпатизируя своему доброму, отзывчивому товарищу, тайком (в те-то годы помогать еврею!) давали ему немного заработать (очень кстати: пенсия фронтового инвалида была нищенской), а главное — чувствовать себя в родной среде. Позже в газетах «Труд», «Строительной», «Гудке», «Вечерней Москве» стал он помещать стихи и стихотворные фельетоны. А в 1958 году написал стихи «Бухенвальдский набат». Положенные на музыку Вано Мурадели, в качестве антивоенной антифашистской песни они завоевали международную известность, покорили миллионы людей.
Говорили, что К.Федин так отозвался о полюбившейся всем песне: «Я не знаю автора стихов, не знаю других его произведений, но за один «Бухенвальдский набат» я бы поставил ему памятник при жизни».
«Бухенвальдский набат» — песня-эпоха... И скажу без преувеличения — мир замер, услышав эту песню», — писал в «Советской культуре» Игорь Шаферан.
Как-то раз на аллее в Измайловском лесопарке мы с Александром Владимировичем догнали молодую маму с крошечной девочкой, которую она вела за ручку. Не совсем еще уверенно переступавшая кроха, к нашему величайшему удивлению, пела: «Белегите, белегите мил!» — заключительные слова «Бухенвальдского набата». Ошеломленный, изумленный, замер на месте Соболев. Когда взглянул на меня, в глазах его блестели слезы... Вот это — награда! Это — то самое, от чего у художника вырастают крылья.
Без всякого преувеличения можно сказать: «Бухенвальдский набат» стал неотъемлемой частью духовной жизни нашего общества шестидесятых — семидесятых, начала восьмидесятых годов. И когда оба автора, Мурадели и Соболев, в 1962 году оказались в числе соискателей Ленинской премии — за одну только песню! — случай уникальный в нашей культуре, это было воспринято как должное, как само собой разумеющееся. В сложившейся ситуации у Комитета по Ленинским премиям, казалось, нет выбора: оставалось присоединиться к мнению народов мира и своей страны и увенчать наградой выдающееся произведение.
Однако он решил иначе... И некоторое время спустя Соболеву «посчастливилось» услышать в троллейбусе кем-то громко произнесенную фразу: «А я Евтушенке за «Бухенвальдский набат» Ленинскую премию дал бы!» Может быть, и не стоило обращать внимания на случайный эпизод: ну, ошибся человек, подумаешь! Так, вероятно, и сделал бы автор замечательных стихов, от которых, по абсолютно единодушному мнению, «бегали мурашки по коже», если бы к тому времени не понял, что его имя умалчивается, «оттирается» от песни. Происходило это постоянно и предельно просто: имя автора стихов почти никогда не называли при исполнении «Бухенвальдского набата». Постепенно и неизбежно в сознании слышавших оформилось, «отвердело» словосочетание «Мурадели, «Бухенвальдский набат». Без автора стихов. Но он же должен быть! Кто? Да, без сомнения, тот, чье имя «на слуху»!
Не буду утверждать, что замалчивание Александра Соболева было спланированной акцией. Но и не исключаю такой вариант. Уж очень все было шито «белыми нитками». Писали (и много) о Мурадели, брали у него интервью. На газетных полосах замелькали заголовки: «В гостях у автора «Бухенвальдского набата» — рассказывали о Мурадели... «Почта автора «Бухенвальдского набата» — опять-таки Мурадели... А восторженных писем приходило великое множество. На радио такие письма доставляли с почтамта мешками. Соболев об этом ничего не знал... Гурьбой осаждали Мурадели журналисты. К Александру Соболеву в период бурной славы «Бухенвальдского набата», как и никогда после, до конца его жизни, не обратился ни один представитель советской прессы. Случайность? Плохо вяжется, плохо верится. Владимир Войнович говорил как-то в радиоинтервью, что после появления его песни о «пыльных тропинках далеких планет...» у него дома «раскалился» телефон: все редакции наперебой требовали его новые стихи. У Александра Соболева телефон молчал. Ни одна редакция не пожелала поинтересоваться содержанием его поэтического портфеля! По меньшей мере странно! А вдруг там лежало еще нечто «набатоподобное»? Неужто не интересно?..