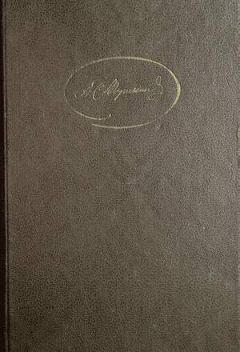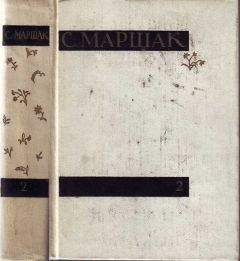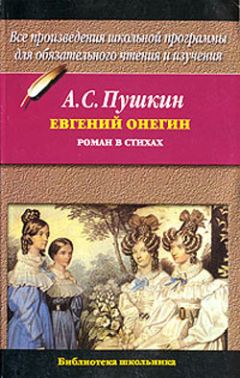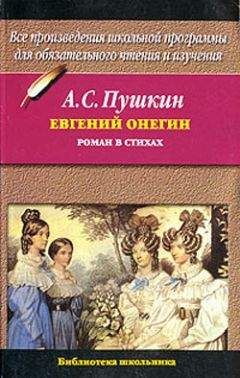Игорь Губерман - Седьмой дневник
Прогнали нас, уволили без никакого мелкого спасибо в одну минуту – в тот же день, как мы по телевидению пробную программу показали. Какой-то нам неведомый, но премудрый начальник некогда и навсегда постановил, что радио (государственное) и телевидение (частное) в Израиле – злейшие конкуренты, и тот, кто работает на радио, к примеру, и нос показать с экрана не имеет права. Мы об этом знали, но всегда надеешься на здравый смысл, а не начертанную кем-то глупость. Так мы оказались на свободе, и на радио с тех пор я – ни ногой, хотя порой очень неудобно отказывать хорошим людям в интервью или каком-нибудь участии в совместной говорильне.
История свалившихся на меня с неба денег только тут и начинается. Умелые и знающие люди прожужжали мне всю голову, что я должен подать в суд, и радио заплатит сей же миг за многолетний свой финансовый разбой. Но лень моя и наплевательство (да плюс глубинное и нутряное недоверие к умелым и знающим) держали на коротком поводке мою любовь к деньгам и справедливости. Но тут и Сашку кто-то убедил, и я привычно вслед за ним поплёлся к адвокату (а уже лет семь прошло, но, видит Бог, у нас достаточно других занятий было). Тяжба Саши прогорела сразу, потому что он не сохранял квитанций о своей зарплате (а на радио никто бы копий нам не дал, такое это свирепое учреждение). А все мои квитанции жена моя Тата зачем-то складывала в ящик, и весь он был забит подобными бумагами.
Но тут необходимо отступление, поскольку я-то знаю о корнях этой загадочной предусмотрительности у своей любимой жены. Много лет назад, когда в Сибири жили мы на ссылочных правах, надумал я соорудить летнюю кухню и баню (а после, кстати, и сортир – во вкус вошёл). И доски я для этой цели – частью купил, а часть украли мне приятели со стройки. На законно купленные доски дали мне какую-то убогую квитанцию, куда-то я её закинул и забыл. Но не дремали бдительные люди. И как только закончил я своё великое строительство, приехали два милицейских ревизора. Так быстро (ну почти немедленно), что явно за строительством моим, подобно кошке у норы мышиной, наблюдали. Где я, старый уголовник, только что из лагеря, брал стройматериалы? Я что-то жалкое им лепетал, соображая с ужасом, что светит мне наверняка по меньшей мере возвращение на зону. Но уже из дома нашего царственной походкой выходила Тата с той помятой и ничтожной квитанцией. После утверждала она много лет, что сохраняла эту жалкую бумажку, предвидя именно такой поворот событий, просто мне, заведомому раздолбаю, это даже говорить не собиралась. А оба ревизора милицейских так уже настроились на своё пакостное торжество, что от бумаги этой прямо на глазах скукожились и начисто увяли. Кто-то явно им заказывал такое торжество, и вот они его, бедняги, подвели. Они даже не удосужились сравнить количество законно купленной древесины – с тем, что вбухал я в кухню и в баню. Ибо самая идея провалилась. И теперь торжествовала Тата. И уже почти тридцать лет об этом случае мне мельком, но неукоснительно напоминает. Думаю, что с той поры и появилась у неё замашка не выкидывать, казалось бы, ненужные и отслужившие своё бумаги.
Итак, у Саши его тяжба провалилась, только он по-прежнему ходил со мной к адвокату, ибо на иврите я без переводчика не мог, и адвокат, махнувший на меня рукой, с одним лишь Сашей собеседовал. Я неотлучно находился рядом и старался не утратить на лице выражение преданности и готовности.
И накопал этот молодой адвокат удивительные факты. Десять лет из месяца в месяц мне платили одну треть того, что я должен был законно получать. Мне даже страшно стало, что отвалится мне сразу так много, но адвокат меня немедля успокоил. Срок давности почти стирал это возмещение чиновного хамства, надо было вовремя искать справедливость, теперь же – только за два года получу я (вероятно, ибо суд рассудит) зажиленные у меня денежки. «Ленивый легкомысленный мудак», – подумал я (по-русски я подумал, потому и не озвучил эту мысль).
И был назначен суд. И снова я сидел, преданно глядя уже на женщину-судью, но Саша безотлучно находился рядом, и поэтому я спокойно наблюдал яростные прения двух адвокатов – нашего и с радио. Наш явно не тянул. Говорил он коротко, порой запинался, что-то выискивал в папке, а тот, что с радио, был пламенно красноречив, самоуверен и напорист. Ну пусть не получу я этих денег, думал я, не очень-то хотелось, проживём, как жили, только обидно, суд ведь не советский, из райкома партии никто тут не нажмёт на правосудие, и всё ведь так понятно и прозрачно в этом случае.
На самом деле всё не так было прозрачно. И теперь пора мне рассказать, как я в несчётный раз мог убедиться в том, что люди изменяются непредсказуемо в той ситуации, где надо выбирать. Нужны ведь были показания свидетелей. И запросили таковые с радионачальников. А есть один такой, руководящий всем вещанием на разных иностранных языках – естественно, и русском в том числе. Зовут его Шмулик, а фамилию называть не стану, потому что и от имени его меня уже воротит. Всегда приветливо-угодливый, ко мне и Саше относился он с пылким расположением. Нашу передачу называл он в разговорах гордостью, визитной карточкой и фирменной маркой русского вещания, а комплименты прочие не стоит даже приводить. Но тут спросили его письменное мнение, и тяжесть выбора легла на трепетную душу Шмулика: писать по-честному или защищать честь радиомундира, запачканного о многолетнее финансовое хамство. И Шмулик (замечательно уютная должность его обязывала) предпочёл запачкать радиомундир враньём, но отстоять его финансовую честность. Он написал, что мне платили даже слишком много, потому что вообще я не был автором всех этих передач, я просто изредка бывал на студии в качестве гостя, принимавшего посильное и малое участие в программе. Да и передача-то была весьма средняя, написал Шмулик, вдохновясь и разогнавшись, так себе была передача, ничуть не лучше прочих. Он даже не поленился и добыл откуда-то те числа, когда я отсутствовал в стране, отъехав на гастроли, но забыл сообразить, что передачи-то с моим участием исправно в это время шли, мы их готовили заранее. Ну, словом, лень перечислять те мерзости, которые наворотил услужливый чиновник Шмулик, творя своё благоразумное предательство. Интересно только, что как раз в это время он где-то встретил Сашку и любовно сообщил ему, что из суда к нему пришёл запрос, и он прекрасно отозвался в нашу пользу.
Я читал неоднократно, что люди, имеющие совесть, но вынужденные совершить какую-нибудь пакость, жутко мучаются от этого, и мне ужасно жалко бедного начальника Шмулика. Мы с ним как-то свиделись потом на одном литературном сборище, он ряда на три впереди меня сидел. Он покосился на меня несколько раз, а после глянул я – его уже и след простыл. Такой вот мужественный совестливый человек.
На радио, по счастью, работали и другие люди, и двое из них написали всё как было. И на невозмутимую судью фонтаны адвоката с радио никак не повлияли. Словом, получил я эти свои денежки и тут же (вот ведь человеческая алчность) принялся жалеть, что проворонил остальные.
Тут я погладил нежно Уголовный кодекс упомянутый – и словно душу отряхнул, чтоб рассказать теперь о подлинно прекрасном человеке. Его на свете нет с недавних пор, мне и сейчас диковинно о нём писать в прошедшем времени. Он умер, где и жил, в Лос-Анджелесе, помнить его будут немногие, хотя Сай Фрумкин был один из тех, кому мы все (те, кто рассеялся по белу свету, вырвавшись из бывшего Союза) обязаны своей свободой. И преувеличения тут нет. Но я сперва – о личных качествах ушедшего.
Мне в долгой моей жизни повстречались, слава Богу, люди очень умные и люди, знающие очень много. И люди неумеренного любопытства к миру. И люди светлого доброжелательства к окружающим – далёким и близким. И люди с безукоризненным нравственным чувством. И люди, следующие голосу своего ума и сердца, невзирая ни на какие обстоятельства. И люди с необыкновенной терпимостью к чужому мнению. Но чтобы всё перечисленное совместилось в одном человеке – мне такое встретилось единожды. И поэтому к Саю Фрумкину (хотя мы подружились почти сразу) относился я всегда с лёгкой опаской: меня его цельность и качественность побуждали быть настороже и воздерживаться от крайних суждений, свойственных мне – за рюмкой в особенности. А выпивка была у Сая Фрумкина – разнообразная и изобильная. Но тут не обойтись без нескольких подробностей судьбы.
Он родился в Каунасе – кажется, в тридцатом году. Благополучная интеллигентная семья. Советское вторжение их, по счастью, не задело, но потом пришли немцы. После гетто Сай с отцом оказались в Дахау. Точней – в одном из его филиалов, где тысячи привезенных рабов строили подземный аэродром. Отец не дожил до освобождения, а четырнадцатилетний Сай уцелел. Потом он приходил в себя в Италии, в конце концов оказался в Америке. Закончив университет в Лос-Анджелесе, стал историком. Но занялся текстильным бизнесом, женился на американке, и всё бы в его жизни покатилось, как у миллионов его благополучно процветающих сограждан.