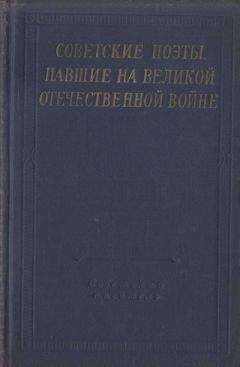Коллективный сборник - Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне
Откровенно погромным было выступление Александра Безыменского. Он предлагал вести речь о поэтах, которые валяются «рупором классового врага, а также о чуждых влияниях в творчестве поэтов, близких нам». В достаточно длинном проскрипционном списке оказались — «империалистическая романтика» Гумилева, «кулацко-богемная» часть стихов Есенина, апологеты «идиотизма деревенской жизни» Николай Клюев и Сергей Клычков, надевший «маску юродства» враг Николай Заболоцкий, неубедительно ругающий кулака Павел Васильев и попавший под влияние его «богемно-хулиганского образа жизни» Ярослав Смеляков[8].
Гражданская «агитка» (по Безыменскому, «Воина и мир» — тоже своеобразная агитка) или лирическое «чириканье»? Абстрактный «космизм», дробность деталей или искомый «синтез», к которому призывал Бухарин? Эти противоречия на съезде так и остались непримиренными.
На практике же рельеф поэзии тридцатых становится более плоским и однообразным. Оттеснены в невидимую часть литературного спектра Анна Ахматова и Осип Мандельштам. Только через много лет начнут печататься стихи стоящих левее Заболоцкого обэриутов Николая Олейникова, Александра Введенского, Даниила Хармса. Практически все перечисленные «фракцией обиженных» авторы вскоре окажутся в тюрьмах и ссылках, а их книги, как и стихи погибших ранее Гумилева и Есенина, будут нежелательным и даже запрещенным чтением на долгие годы. «Кто теперь говорит об Андрее Белом? Кто читает его книги? Кто принимает их всерьез, как и Хлебникова, как и многих других…»[9] — записывает в дневнике Александр Афиногенов в марте тридцать седьмого года.
Исчезают из поля зрения крупнейшие имена, спрямляется рельеф — и одновременно сужается тематический диапазон лирики. «Большие темы лирики не всегда «вечные», но всегда экзистенциальные в том смысле, что они касаются коренных аспектов бытия человека и основных его ценностей <…>, — замечает Л. Я. Гинзбург. — Это темы жизни и смерти, смысла жизни, любви, вечности и быстротекущего времени, природы и города, творчества, судьбы и позиции поэта, искусства, культуры и исторического прошлого, общения с божеством и неверия, дружбы и одиночества, мечты и разочарования. Это темы социальные, гражданские: свободы, государства, войны, справедливости и несправедливости»[10].
Многие из экзистенциальных тем начинают восприниматься как несовременные, не отвечающие эпохе. Прежде всего те, что связаны со сложной диалектикой чувства, с драматизмом, с эстетическим полюсом трагедии. Все это представляется оставшимся в «проклятом прошлом», несовместимым с новой эпохой. На писательском съезде Владимир Луговской спорил с противопоставлением публицистической и интимно-лирической поэзии, призывал соединять в творчестве боевое и личное, рассматривал будущее поэзии как «единый поток лирико-филисофского ощущения мира», однако понимал такое слияние весьма своеобразно: «Этот мир бодрствующих, борющихся и радующихся. Страшный мир, мир трагедий гибнет. Герой не падает под ударами рока, герой летит на стальных крыльях, спасая героев»[11].
На Международном конгрессе писателей в Париже в 1935 году Николай Тихонов уже рапортовал об успешном завершении «поисков оптимизма»: «Поэзия наша мужественна, но не шовинистична. Она не знает темы «лишнего человека», человека, изгнанного из общества, человека, ненужного жизни. Революция бережет человека. Это не парадокс и не красное словцо. <…> Оптимизм! Он не кумир. Он не механический идол, требующий официального фимиама. Он — выразитель лучших движений сегодняшнего здорового социалистического человека»[12]
Правда, Пастернак пытался отстоять право искусства на трагедию. В дискуссию о формализме в марте 1936 года он говорил: «По-моему, из искусства напрасно упустили дух трагизма. Я считаю, что без духа трагизма все-таки искусство не осмысленно. Что же я понимаю под трагизмом? Я вам скажу, товарищи. Я без трагизма даже пейзажа не принимаю. Я даже растительного мира без трагизма не воспринимаю. Что же сказать о человеческом мире? Почему могло так случиться, что мы расстались с этой, если не основной, то с одной из главных сторон искусства. … Трагизм присутствует в радостях, трагизм — это достоинство человека и серьезность его, его полный рост, его способность, находясь в природе, побеждать ее»[13].
Но даже такая уступка современности (старый трагизм поэт предлагал объявить «свинством», а подлинный трагизм оставить для себя: наши трагедии — не чета прежним: «и любовь пограндиознее онегинской любви») не вызвала понимания. «Голос: “Совершенно неверно”, шум», — бесстрастно зафиксировала стенографистка реакцию зала.
Стихотворный призыв, бодрый лозунг постепенно становятся социальным заказом эпохи. Авторитет такой лозунговой поэтики поддерживается не столько стихотворцами вроде Бедного и Безыменского, сколько односторонне интерпретированным творчеством позднего Маяковского (слова Сталина о «лучшем, талантливейшем поэте нашей советской эпохи» были опубликованы в конце 1935 года).
«Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год. Я хочу, чтоб над мыслью времен комиссар с приказанием нависал… Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо. С чугуном чтоб и с выделкой стали о работе стихов от Политбюро, чтобы делал доклады Сталин» (вот на съезде писателей Бухарин и делал доклад «от Политбюро» — желание поэта осуществилось). Да и насквозь лирический, предельно далекий от злобы дня Пастернак в начале тридцатых годов пытается «мериться пятилеткой», хотя в той же строфе вспоминает и о другом призвании поэта:
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, чти всякой косности косней?
(«Борису Пильняку», 1931)
Поэтам, начавшим писать и — главное — публиковаться в тридцатые годы чаще всего уже не нужно было ломать себя, становиться на горло собственной песне, противопоставлять пятилетку и грудную клетку. Гражданская лирика, поэтическая публицистика с ее прямым, не обработанным словом, с беспримесным оптимистическим пафосом, где нет трагедий, а есть лишь успешно преодолеваемые трудности, — становится для них органичной средой существования, опираясь на их жизненный опыт.
В калейдоскопе индивидуальных судеб достаточно отчетливо выявляется типовая биография «поэтического молодняка» тридцатых.
Год рождения — предоктябрьское десятилетие (лишь Али Шогенцуков, Самуил Росин, Алексей Крайский и еще немногие были старше). Значит, «проклятое прошлое» они захватили только краешком детских воспоминаний, не успели и на гражданскую войну; во всем этом они поверят потом писаной другими истории, смешавшей фрагменты реальности, романтический миф и целенаправленное искажение фактов.
Социальное происхождение — из низов (благополучные гимназисты и студенты либо окажутся по другую сторону баррикад, либо придут в литературу раньше).
Ранний труд множество простых, часто тяжелых рабочих профессий, что вызывалось, вероятно, не только необходимостью зарабатывать себе на жизнь, но и высокими идейными соображениями, желанием внести конкретный вклад в строительство нового общества. Механик Абросимов, проходчик на строительстве московского метро Богатков, геолог Занадворов, чернорабочий и резинщик на «Красном треугольнике» Инге, слесарь харьковского завода Каневский, подручный слесаря-водопроводчика Лебедев, еще один слесарь — Стрельченко, столяр-краснодеревщик Федоров, коногон и забойщик на шахте Чугунов.
И — параллельно — первые поэтические опыты.
Потом — рабфак, литературные курсы, институт или университет, почти неизбежная работа в газете или журнале, странствия по превратившейся в огромную стройку стране, первые публикации, первые книги (а некоторые успели увидеть не только первые). Об их пафосе дают представление уже заглавия: «Бодрость» Евгения Абросимова и его соавторов (1934), «Простор» Владислава Занадворова (1941). «Эпоха» (1931) и «Золотой век» (1937) Юрия Инге, «Рождение песни» (1931) Евгения Нежинцева, «Жатва» (1935), «Наше спокойствие» (1940) Самуила Росина, «Рапорт наркому» (1933), «Богатство» (1938) и «Земная сила» (1940) Миколы Шпака, «Радостный берег» (1939) Арона Копштейна, «Счастье» (1939) Николая Отрады.
Официальный поэтический барометр тридцатых годов устойчиво показывает «ясно».
«И я хочу любить и быть любимым На светлой нашей, солнечной земле!» (Борис Костров, «У обрыва», 1939).
«Так я странствовал все лето По колхозам и станицам. И везде гостеприимно Открывали двери мне. В городах меня встречали Улыбавшиеся лица И не мог я стать бродягой В нашей солнечной стране» (Юрий Инге. «Странствие», 1939).
«Благословлю земли просторы, Где жил я здесь в наш светлый век. Любил ее моря и горы, Как мог свободный человек» (Вячеслав Афанасьев. «Застигнутый последней метой…», 1940).