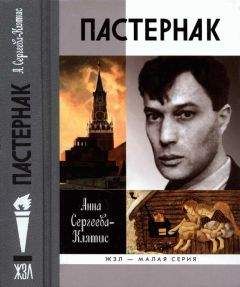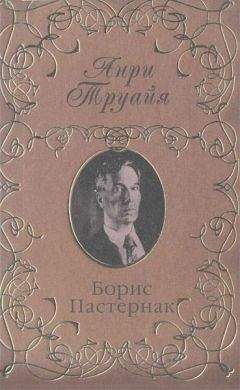Людмила Зыкина - Песня
В доме нашем, в семейном хоре, пели очень строго — ни одной вульгарной, разухабистой интонации, а «репертуар» был самый разный: и жестокие романсы, и городской фольклор, и самые что ни на есть старинные, заповедные, что ли, деревенские песни. Тут уж, конечно, задавала тон бабушка — несравненная мастерица. Стелилась у нее песня «по-рязански», как Ока в полях,— с извилинами да с загонами. Голос то жаворонком взмывал ввысь, то, будто скользя по облакам, устремлялся вниз, к земле, породившей эти чудо-песни.
Родила я сына в поле.
Дайте счастья ему,
Дайте доли!
Много лет спустя в исследованиях фольклористов я прочитала, что это особая манера — «петь волнами», когда звук украшает легкая вибрация. Верхние ноты при этом буквально тают, «испаряясь» на лету, как тополиный пух.
Вспоминаю я о днях детства, о доме нашем, о бабушке, о маме еще потому, что некоторые журналисты до сих пор пишут, будто с самых юных лет проявилось во мне «стремление к сцене», «тяга к музыке» и даже «предчувствие высокого призвания».
А все было не так. Вернее, не совсем так.
Не сцена, не концертная эстрада манили меня тогда. Как и тысячи моих сверстниц, бредила я именами Чкалова, Байдукова, Ляпидевского, Белякова и, конечно, героинь-летчиц — Расковой, Гризодубовой, Осипенко.
Мечтала стать летчицей, поступить в аэроклуб, водить самолет. Как-то в школе — еще до войны — получила билет на новогоднюю елку в Центральный парк культуры и отдыха. Пришла, увидела осоавиахимовскую парашютную вышку — и сразу все позабыла: и аттракционы, и елку, и самого Деда-Мороза. Маленьких туда не пускали, я же встала на носочки — и меня пропустили. Уже прицепила парашют, но в самый последний момент чуть не струсила: а если разобьюсь? Только раздумывать было некогда: зажмурилась — и открыла глаза уже на земле.
Прыгала я с вышки и с аэростата раз пять, последний — уже в войну.
Была я коренастая девчонка, носила значок ГТО первой ступени — еще на цепочке. Играла и в волейбол, и в футбол, и даже в хоккей. Летом с велосипеда не слезала.
Ни в чем не хотела уступать мальчишкам. Признаюсь, обожала копаться в моторах; после войны даже на мотоцикле трофейном носилась по Черемушкам. И каждый самолет провожала взглядом.
Через много лет выпадет мне счастье дружить с наследниками чкаловской славы — летчиком-испытателем Георгием Мосоловым, космонавтами Юрием Гагариным, Валентиной Терешковой, Павлом Поповичем, Виталием Севастьяновым, Владиславом Волковым. Они и сегодня для меня воплощение той несбывшейся далекой мечты детства — сесть за штурвал самолета, высоко-высоко взлететь над землей…
А пела я, сколько себя помню, всегда. Первое мое «публичное» выступление, если не ошибаюсь, было еще в третьем классе. В Доме пионеров ставили спектакль — «костюмный», из старой, чуть ли не купеческой жизни. По ходу спектакля звучал романс, но исполнительница заболела. Кто-то вспомнил: «Зыкина поет». Разыскали меня, уговорили. Так я спела — и не что-нибудь, а «Белой акации грозди душистые».
Жили мы трудно. Мама очень уставала на работе, и особо заниматься много ей было некогда. Учила она меня шитью; я и сейчас науки этой не забыла. А за шитьем тихонько напевала.
Песню про вышивальщицу и моряка, возможно, многие слышали с телеэкрана; я спела ее режиссеру Марлену Хуциеву, и она зазвучала в его фильме «Был месяц май»:
На берегу сидит красотка.
Она шелками платье шьет.
Работа чудная по шелку,
У ней цветов недостает.
Отец работал до войны на хлебозаводе. Была у него светлая голова, и все уважали его.
Видя мою тягу к музыке, к пению, откуда-то принес балалайку, мандолину, какие-то дудочки, свирели…
Я выучилась играть русскую, цыганочку, страдания на гармошке и на струнных. Труднее всего осваивала почему-то гитару, но одолела, разучила вальс и даже… болеро.
Мне, наверное, повезло — главный врач больницы, где работала мама, очень любил искусство, музыку, песню. Клуб при этой больнице славился своей самодеятельностью: танцорами, чтецами, певцами. Потом я наших девочек-танцовщиц встречала и в «Березке», и в ансамбле Игоря Моисеева. «Гремели» и наши певицы — Надя Щеглокова, Нина Гаврина. Вспоминается мне Нинин голос, с удивительно красивым тембром, с неповторимыми низкими обертонами — талант у нее был несомненный.
Я стала ходить в клуб — не петь, а танцевать, даже в драмкружке занималась.
Первой обратила на меня внимание наша соседка Антонина Ивановна Кормилицына.
Жива еще Антонина Ивановна, вынянчила внука, и я очень хочу, чтобы прочла она эти строки… Была она полная, высокая, особенной легкой стати. Ездила на велосипеде — это тогда было в диковинку.
Антонина Ивановна любила петь — и не только песни; помню, разучивала даже оперные партии.
Почему-то очень верила она в меня, в мой голосок и говорила, бывало: «Есть у тебя огонек, который не у всех зажигается…»
Первая она учила меня самым элементарным житейским премудростям — как ходить, не размахивать руками, не сутулиться, не горбиться. «Надо,— повторяла она,— не ходить, а нести себя…»
Осталась у меня с той поры одна-разъединственная фотокарточка: косы, прямой пробор. И дата — 1941 год…
С того памятного утра 22 июня в жизнь мою и моих сверстниц ворвалась война. Взволнованные слова Молотова по радио словно провели черту между спокойной жизнью и большой бедой, которая обрушилась на нашу страну. Тревожный ритм столицы, готовившейся отбросить и разгромить врага, бессонные дежурства на крышах домов, где вместе со взрослыми мне пришлось тушить немецкие зажигалки — такой запомнилась мне Москва в первые месяцы войны.
В больницу, ставшую военным госпиталем, каждый день доставляли раненых. Рядом с нашим домом, у окружной железной дороги, было общежитие медицинских сестер и санитарок.
Красноармейцы забегали к девчонкам на «разговоры». На столе появлялось нехитрое угощение — чай да баранки. Я тоже туда приходила, забивалась в уголок. Грустными были те посиделки — через какое-то время ребята уезжали на фронт и след их терялся.
Я засиживалась в общежитии по вечерам. Виною тому был совсем молоденький солдат по имени Виктор. А точнее, гитара его и песни. Я просто замирала от восторга, когда он брал три-четыре аккорда и начинал старинную ямщицкую:
Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой.
Ямщик, уныло напевая,
Качает буйной головой.
Особенно мне нравилось «…Бежал бродяга с Сахалина».
А еще научил меня Виктор:
По муромской дорожке
Стояли три сосны…
Со мной прощался милый
До будущей весны.
Сколько потом ни пела и ни слышала я песен, строки эти всегда поражают меня какой-то безыскусной, прозрачной грустью. Это, наверное, потому, что очень уж созвучны были они настроению людей летом и осенью 1941-го:
Со мной прощался милый
До будущей весны…
Осмелела я и как-то на посиделках взяла гитару. Пела я старые — бабушкины, мамины, и новые — военные песни.
А скоро стало не до песен. Отец ушел на фронт. Иждивенческой карточки нам не хватало. Мама продолжала работать санитаркой, надо было зарабатывать и мне. Вот и поступила я на станкостроительный ученицей токаря. Когда писала заявление, прибавила себе два года — иначе бы не взяли.
Дорогой мой московский станкостроительный имени Серго Орджоникидзе!..
Давно уже строгие городские власти наложили запрет на фабричные гудки. А в те дни по всей окраине пели они, перебивая друг друга, торжественно и чуточку тревожно.
Утро. Смена.
Толпы людей заполняли и Донской, и Люсиновку, и Шаболовку. Из набитых до отказа трамваев гурьбой высыпали на остановку рабочие.
Вместе со всеми шла к проходной и я — ученица, а потом токарь — «Зыка» по-заводскому…
Меньше чем за три месяца получила третий разряд и стала работать самостоятельно.
Трудно узнать теперь родной цех. Стены только, может, и сохранились. И прежнее рабочее место не отыскать среди новейших станков. Наверное, здесь, поближе к углу, в сорок первом стоял мой старенький обдирочный.
Чтобы дотянуться до станка, подставляла скамеечку. Работать было интересно, но все время хотелось спать. Однажды, чтобы не заснуть, запустила еще соседний станок и стала переходить по очереди от одного к другому. Пришлось здорово попотеть. Но норму перевыполнила, и вручили мне четыре красных флажка как ударнице. А за досрочное освоение станка выдали премию 75 рублей… Скоро присвоили пятый производственный разряд.
Как-то прислали мальчишек — старше меня по возрасту — осваивать токарное дело. Ох и намучилась я с ними, непутевыми! Один говорит: «Научишь нас, Зыка, чечетку плясать — будем тебя слушаться». Чтобы завоевать авторитет, пришлось согласиться. Куда денешься…