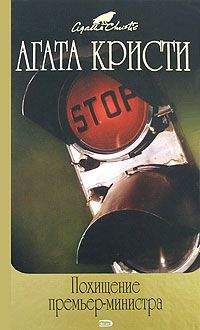Антология - Европейская поэзия XIX века
Поэзия уже тогда искала для своего времени формулу. Но однозначные формулы не вполне убеждают. «Наш век торгаш, в сей век железный…» «Век шествует путем своим железным…» Это было. Жизнь в по-новому устроенном мире для многих потеряла теплоту и смысл, многие сами теряли ее смысл; и именно железные ветры века лишили многих родного дома, ощущения уюта.
От дружной ветки отлученный,
Скажи, листок уединенный,
Куда летишь?.. Не знаю сам…
Мотив скитальческой скорби из Антуана Арно распространился по всей Европе: и через переводы Жуковского и Давыдова (вплоть до лермонтовского «Дубового листка…»), и в «Песнях» Леопарди и даже Гейне («И я когда-то знал край родимый…»). Это соответствовало и самосознанию романтизма, и реальным человеческим судьбам. Тоску португальца, изгнанного инквизицией на чужбину (как изгнали на чужбину Алмейду Гаррета), не сведешь к одной только ностальгии, извечно традиционной для поэзии его страны; а когда слова: «Вот я на родине и все ж тоскую», — говорит чех Ян Неруда, этого не объяснить одними законами романтической эстетики — и надо знать «железную» прозу самой действительности тогдашней Чехии… «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век!» Но поставьте рядом с этими образами «Я помню чудное мгновенье…», гейневскую «Лорелею» или сонеты датчанина Фредерика Палудана-Мюллера: железо отступает. Что же главное в опыте и облике века?
Осторожнее подходит к такой многосоставности наука. Она заведомо трезво делит долгие сто лет поэзии на планомерно сменяющие друг друга этапы. После классицизма и сентиментализма (век, в общем, позапрошлый) — беспокойный и буйный романтизм; говорят еще и о всеевропейской эпохе байронизма. В середине столетия — несколько усмиренный, одомашненный эстетизм: французский «Парнас», английские «прерафаэлиты», всяческие разновидности «чистого искусства». Конец века (сами эти слова уже употребляются как твердый термин) — это символизм, неоромантизм, поэзия декадентов. Полезное расчленение. Но как всеохватывающий образ и оно не вполне удачно.
Романтизм после классики? — Но чуть ли не четыре десятилетия в XIX веке присутствовали Пушкин и Гете. Всеобщее поветрие «байронизма»? — Но немецкая романтика, глубоко переживавшая и судьбы демократии, и борьбу греков, и даже гибель самого Байрона при Месолонги, осталась равнодушна к тому односторонне-величественному гимну личности, который был главным в «байронизме». «Парнас» и «чистое искусство»? — Но Франция их времени увлекается и Беранже, и Гюго, и Потье. Общее движение поэзии века к сугубому эстетизму, в то время как проза все глубже и глубже уходит в натурализм, реализм и общественность? Есть и такая общая схема, и она тоже иногда выглядит приемлемой. Но как быть с неразрывной реалистической линией в европейской лирике? Как быть, при всей предельной «асоциальности» французских символистов, со становящимся в конце XIX века явно «общественным», «народно-мифологическим» символизмом Польши и Германии? Важного для нас центрального, сквозного — единственного! — нерва в поэзии века снова отыскать не удается.
Так тогда, может быть, «век контрастов»? Страна контрастов, город контрастов, век контрастов… Но любой век есть век контрастов. Может быть, век, неразличимо вырастающий из предыдущего и неразличимо врастающий в тот, что наступает за ним? Но так тоже можно говорить о любом веке: в любом уходящем есть начало последующего.
У девятнадцатого века, видимого из сегодня, есть одна особенность: он и ушедший, и он же — самый близкий. Это прошлый век, и только что прошедшим он будет, лишь пока не кончится двадцатый. Мы принадлежим к последним людям, для которых знаменитый «конец века» (вовсе не сводимый к одному только декадентству) — это начало нас самих. И нам доводилось учиться, хотя бы «чему-нибудь и как-нибудь», именно у тех, кто был всецело воспитан на его культуре. Таким будет для XXI века и наш век, так бывало и гораздо раньше. Но столетье Пушкина и Гете, Мицкевича и Гейне, Леопарди и Бодлера, Потье и Вазова может быть таким лишь сегодня, и надо схватить именно это только нам доступное очарование. Очарование поэзии прошлого века и в том, что она «прошла», что других таких стихов — «и божество, и вдохновенье…», «Дубовый листок…» — не напишут. Но оно и в том, что XIX век — это молодость сегодня существующего, отнюдь не ушедшего и не собирающегося уходить. И там, где эта молодость была живым ростом, надо искать цельности, а не распада.
* * *Передвинемся из начала в середину века — и близость начал с концами будет еще очевиднее. А иногда за переходами из «периода» в «период» с очевидностью выступят и переходы в наше время.
Молодая буржуазия еще не познакомила человечество ни с одним мировым кризисом, еще нет поступательно-единой мировой судьбы, нить которой способен навсегда разъять любой крохотный порез в любой точке земного шара, но Европа романтизма знает уже вполне поэзию мировой скорби: и желание чувствовать домом весь мир, и отсутствие родного дома, и ощущение себя чужим, даже когда ты дома; а мука, разъедающая сердце индивида, уже приравнена к трещине, раскалывающей всю землю. Никто еще не утверждает взахлеб, что современная машина изящнее любого изысканного сонета (в самом конце девятнадцатого века — и по полному праву вступая в двадцатый — Габриэле Д’Аннунцио и впрямь напишет оду «металлическому вестнику смерти» — «Торпедному катеру в Адриатике»), Но тревожаще-умная мысль, и в гораздо более умной форме, о конфликте духовной, «органической» культуры с «буржуазно-лощеной», омертвляющей ее цивилизацией уже высказана современником Гете, Фридрихом Вольфом, и эта мысль уже переживается во всеобщем опыте.
Самое интересное здесь, пожалуй, то, что в области не просто поэтических переживаний, а исторического действия идет борьба за родной дом, идет возрождение Европы. Апофеозом этой борьбы еще не стоят памятники Гарибальди, и под австро-французскими ударами рушится Римская республика, но поэты Италии пишут не о задавленной и погребенной, а о воскресающей свободе. В истории этой борьбы еще не было Шипки, но Само Томашик уже воскликнул: «Гей, славяне!» — и это отозвалось и в Чехии, и во всех балканских странах. Еще нет и намека на будущую Югославию (есть лишь территория, разорванная между Австрией, Венгрией и Оттоманской Портой) — но черногорец Негош устами своего любимого героя в поэме «Горный венок» (1847) после трудных раздумий говорит: «Да, за свободу надо воевать!» И именно в 1850 году собравшиеся в Вене сербские и хорватские писатели думают об общем языке, договариваются о единстве грамматики и произношения.
Общность языка и пафоса, родство далеко разведенных историей судеб и родство «старого» с нашим временем сказывается здесь во всем. Еще не родились блоковские стихи «О, Русь моя! Жена моя!..», и страстью к Ирландии, отраженной в безответной любви к красавице актрисе Мод Ганн, еще но одержим молодой Иейтс, — это будет в конце XIX, в начале XX века, — но уже высказаны некрасовские слова-лозунг: «Как женщину, ты родину любил…». У Блока еще нет предрассветных «Ante Lucem», нет его «Итальянских стихов» («Флоренция, ты ирис нежный // Страны, где я когда-то жил…»), и нет «Двенадцати»; но польскому его предшественнику — Красиньскому — муза уже напела и «Перед рассветом» («И я, как Данте, видел ад…»), и «Небожественную комедию», где над враждебными станами плебса и знати маячит всеотпускающий «Галилеянин». Еще не было Коммуны, но в 1848 году уже пишет стихи автор «Интернационала» Эжен Потье. И еще далеко до «мы диалектику учили не по Гегелю» и «сердце наш барабан», но рядом со сладчайшим «И я когда-то знал край родимый…» уже написана гейневская «Доктрина»:
Бей в барабан, и не бойся беды,
И маркитантку целуй вольней!
………………..
Вот тебе Гегеля полный курс,
Вот тебе смысл науки прямой!
Именно все это нам как раз и важно: не столько смена «периодов» и «направлений», сколько их живые, совсем не окостеневшие сочленения; и не просто «понятные нам» заботы, но заботы, самым непосредственным образом затрагивающие и нас. Собственно, все это — переходы прямо в нас, прямо определившие и состав наших библиотек, и наши вкусы. Этого никак не скажешь об эпохе Данте, Рабле или Кромвеля, как бы мы ни лелеяли в душе кокетливую мысль, что оказаться в нашем собственном веке нам пришлось лишь случайно, как бы мы умом ни переживали борьбу гвельфов и гибеллинов и как бы нас ни прельщала поэзия гульфиков или шекспировских сонетов, которыми мы можем оперировать по одним номерам, даже не прибегая к образам и строкам. Но зенит XIX века, его центр в самоопределении и идей, и поэтических направлений, связан с нашим временем воистину единым нервом. И хотя здесь еще нет, например, ни одной разновидности европейского символизма, стоящие в столетии прямо посередине бодлеровские «Соответствия» предвосхищают музыку последних поэтов века ничуть не меньше, чем берут у первых.