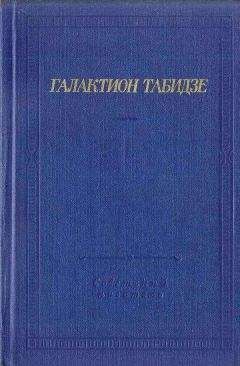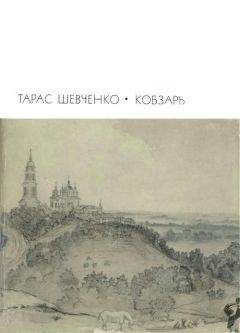Максим Рыльский - Стихотворения и поэмы
Каким же мироощущением пронизаны весьма живописные и певучие стихи книги «Под осенними звездами»? У поэта всегда было чувство вечно изменяющейся жизни, но отношение к этой жизни близко к эпикурейскому: наслаждение природой, охотой, любовью, искусством:
Когда убьют всё лучшее заботы
Житейские, и не найти следов
Прошедшего, и больше нет охоты
Идти ни из-под крова, ни под кров,
Тогда, искусство, мой оплот — одно ты:
В живой красе новооткрытых слов,
В звучанье музыки, земные ноты
Преображающей в небесный зов,
И в малой, взор ласкающей картине,
Безмерно большей, чем бескрайний свет!
Тебе, искусство, и твоей святыне
Благоговейный шлю поклон-привет.
Но вот грянула революция. К ее приходу поэт, как уже говорилось, не был подготовлен. Его состояние, видимо, походило на растерянность перед событиями, следствием чего явилось желание до поры до времени остаться в стороне от общественной борьбы, замкнуться в мире искусства и природы. Не случайно в полемических строках поэмы «На опушке», написанной между февралем и октябрем 1917 года, говорится:
Пускай себе премудрый фарисей
Его зовет — «поэтом без идей»[4].
Что же оставляет себе поэт в мире, уже стоящем на пороге Октября? Какие ценности, какую исходную позицию для творчества?
Софокл и Гамсун, Эдгар По и Гете,
Толстой глубокий и Гюго литой,
Петраркины точеные сонеты
И Достоевский, грешный и святой,
И книги все, земные все поэты
Сродни ему, душе его живой…
Однако значение этих литературных деклараций не сводится к стремлению отгородиться от живой современности. Говоря об опытах молодого Рыльского, следует указать на одну примечательную особенность их, которая сохранилась и на последующих этапах литературного пути поэта и которая в значительной мере определила его облик как художника. Уже в ранних стихах Рыльского обращает на себя внимание обилие литературных отражений, реминисценций шедевров мирового искусства. Его творческое вдохновение загоралось от общения с литературными памятниками прошлого. Сошлемся хотя бы на эти стихи:
За окнами на улице дремотной
Поет шарманка на старинный лад, —
А Джемма улыбается и смотрит
На то, как Санин продает оршад.
Улыбки. Шепот. Ощущенье счастья,
Любовь, которая уже близка.
И солнца луч, как светлый соучастник,
Касается цветов и потолка.
Героев повести Тургенева «Вешние воды» Рыльский как бы заново воскрешает в своем стихотворении, но дает им новое, лирическое бытие, то есть переводит ситуацию этого произведения в свой духовный мир. Надо ли доказывать, что термины «подражание», «заимствование» здесь неуместны? Перед читателем не мертвое и не сухое «отражение», а интенсивное лирическое переживание уже созданных художественных ценностей, переживание, которое из материалов этих ценностей — сюжетов, образов, мотивов, картин — созидает нечто новое.
Понятно, что для писателя с такими художественными устремлениями непосредственное отражение современной действительности представлялось задачей чрезвычайно сложной и трудной. Тем более велика заслуга поэта, что он в результате напряженной работы сумел развить в себе способность находить замечательные материалы и краски для своей поэзии в гуще новой жизни, рожденной Октябрем.
Следующая книга стихов «Синяя даль», вышедшая в 1922 году, свидетельствовала о том, как упорно держится старое в новом. Разрыв поэзии Рыльского с революционной действительностью и здесь был ощутимым. За окнами гремели выстрелы, шла гражданская война, лилась кровь. Рабочие и крестьяне, идя в бой с угнетателями, пели песни, сложенные поэтами революционного народа, а Рыльский все еще пребывал в камерном мире искусства. Уже его соратники по оружию — Тычина, Сосюра, Эллан — пели о красных звездах, о гигантском плуге, перепахивающем землю, об очистительном ветре революции, о том, как идет красная зима с лозунгом «вперед, за власть Советов», а Рыльский все еще уходил в романтическую «синюю даль» или обращался к далекой античности. В «Синей дали» наиболее отчетливо проявился так называемый «неоклассицизм» поэта.
В те времена политические страсти проникли во все сферы жизни, тогда все переводилось на язык политики. Даже цвет: синяя даль и красная зима[5] — это были два символа, противоположные и в эстетическом и в политическом отношении. Вот почему Рыльский со своим аполитизмом и «неоклассицизмом» легко мог быть причислен к враждебному лагерю. Подобная позиция в известной мере устраивала и украинских буржуазных националистов; недаром эти «парнасцы», вчерашние символисты и эстеты, а в первые послеоктябрьские годы «внутренние эмигранты» — хотели видеть Рыльского «своим». Но они ошиблись.
Литературная ситуация на Украине в 20-е годы была крайне сложной, напряженной и противоречивой. В 1922–1923 годах здесь появилось несколько литературных организаций, таких, как «Гарт» («Закал», пролетарские писатели), «Плуг» (крестьянские писатели), «Аспанфут» (ассоциация панфутуристов). Решительней проявили себя и «неоклассики». Воскрешение классических форм искусства и классических стилей, ориентация на западноевропейскую культуру, погружение в мир патриархальной старины — таково в немногих словах направление художественных исканий «неоклассиков». Уязвимость и ограниченность их литературной программы совершенно ясна, поскольку она уводила искусство от широких и прямых контактов с современностью, отвлекала его от злободневных политических проблем. Именно это и было причиной симпатий к «неоклассикам» буржуазно-националистической интеллигенции, а когда в 1925 году возникла ВАПЛИТЕ[6], то они были поддержаны и группой М. Хвылевого, выступившего против национальной политики большевистской партии.
Однако подобные заявления и одобрения не дают оснований усматривать в творчестве «неоклассиков» какую-либо контрабанду враждебной социализму идеологии — обвинение, которое было им предъявлено вульгарно-социологической критикой 20–30-х годов. Между тем в деятельности «неоклассиков» следует различать и свои положительные стороны, в частности: решительную защиту классического наследства и активную полемику с левацкими установками ликвидаторов искусства — лефовцев и пролеткультовцев, призыв к овладению богатствами мировой художественной культуры.
Вот что говорил незадолго до смерти о «неоклассиках» сам Рыльский: «Надо прямо сказать, что довольно невыразительный термин „неоклассики“ был приложен случайно и очень условно к небольшой группе поэтов и литературоведов, группировавшихся сначала вокруг журнала „Книгарь“ (1918–1920), а позже — вокруг издательства „Слово“. Хотя и пишется в наших справочных изданиях, будто украинские „неоклассики“ провозгласили культ „чистого искусства“, заявляю с полной ответственностью, что никто из участников группы нигде и никогда такого лозунга не поднимал… В теоретических постулатах „неоклассиков“ было действительно много спорного, а то и неправильного, — но об этом можно бы говорить только тогда, когда читателям было бы известно наследие этой группы. Но апологетами „чистой красоты“, „искусства для искусства“ и тому подобных несуразностей „неоклассики“ себя никак не считали и не провозглашали. Эстетической платформой, которая их объединяла, была любовь к слову, к строгой форме, к великому наследию мировой литературы. Украинский неоклассицизм был в значительной мере выражением борьбы против панфутуристов, деструкторов и других представителей того искусства, которое так безосновательно декларировало себя как „левое“…» [7]
Что же касается Рыльского, то была в его гражданском и нравственном облике одна черта, резко отделявшая его и от лагеря внутренних эмигрантов, и от приспособленцев, — это предельная честность, желание быть «не бумажным — живым поэтом». Эта позиция Рыльского была характерна для многих поэтов, испытавших на себе влияние декадентской эстетики (Вера Инбер, Галактион Табидзе, Мухтар Ауэзов), которые, как и Рыльский, медленно, но верно шли к новым идейно-творческим позициям и только к началу 30-х годов твердо стали на почву социалистического реализма.
21923 год — год заметного перелома в настроениях и мотивах Рыльского, год, когда он последовательно начал строить мосты к народу, к будущему, к советской действительности. Об этом, в ответ на резкую критику «Синей дали», он сам оповестил в письме в редакцию киевской газеты: «Если вернемся к моим произведениям, то действительно странно читать в 1922–23-м о „рыбной ловле“, о „покое“ и т. п. Это не значит, что я все время революции только спокойно ловил рыбу, а лишь свидетельствует об одном свойстве моей психики: я могу откликаться лирическим стихом только на прошедшее, на то, что „отстоялось в душе“ и может иметь прозрачную форму, свойственную моей манере, иначе писать не могу. В последнее время в моей лирике в отношении ее мотивов идет эволюция, и что она даст — увидит читатель. Во всяком случае современность заговорила. Кончаю просьбой не делать скороспелых обобщений и приговоров»[8].