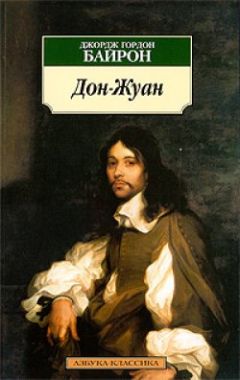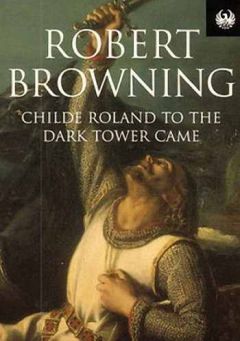Джордж Байрон - Паломничество Чайльд-Гарольда
Тем, что выиграла Италия при недавнем перемещении наций, англичанам нет нужды интересоваться, пока они не убедятся в том, что Англия выиграла нечто гораздо большее, чем постоянная армия и отмена Habeas corpus.[167] Пока им достаточно заниматься собственными делами. Что касается их действий за рубежами и особенно на Юге, истинно говорю вам, они получат возмездие, и притом — в недалеком будущем.
Желая вам, дорогой Хобхауз, благополучного и приятного возвращения в страну, процветание которой никому не может быть дороже, чем вам, я посвящаю вам эту поэму в ее законченном виде и повторяю, что неизменно остаюсь
Вашим преданным и любящим другом.
Байрон. 1В Венеции на Ponte dei Sospiri,[168]
Где супротив дворца стоит тюрьма,
Где — зрелище единственное в мире! —
Из волн встают и храмы и дома,
Там бьет крылом История сама,
И, догорая, рдеет солнце Славы
Над красотой, сводящею с ума,
Над Марком, чей, доныне величавый,
Лев перестал страшить и малые державы.
Морей царица, в башенном венце,
Из теплых вод, как Анадиомена,
С улыбкой превосходства на лице
Она взошла, прекрасна и надменна.
Ее принцессы принимали вено
Покорных стран, и сказочный Восток
В полу ей сыпал все, что драгоценно.
И сильный князь, как маленький князек,
На пир к ней позванный, гордиться честью мог.
Но смолк напев Торкватовых октав,[169]
И песня гондольера отзвучала,
Дворцы дряхлеют, меркнет жизнь, устав,
И не тревожит лютня сон канала.
Лишь красота Природы не увяла.
Искусства гибли, царства отцвели,
Но для веков отчизна карнавала
Осталась, как мираж в пустой дали,
Лицом Италии и празднеством Земли.
И в ней для нас еще есть обаянье:
Не только прошлый блеск, не имена
Теней, следящих в горестном молчанье,
Как, дожей и богатства лишена,
К упадку быстро клонится она, —
Иным завоевать она сумела
Грядущие века и племена,
И пусть ее величье оскудело,
Но здесь возникли Пьер, и Шейлок, и Отелло,[170]
Творенья Мысли — не бездушный прах,
Бессмертные, они веков светила,
И с ними жизнь отрадней, в их лучах
Все то, что ненавистно и постыло,
Что в смертном рабстве душу извратило,
Иль заглушит, иль вытеснит сполна
Ликующая творческая сила,
И, солнечна, безоблачно ясна,
Сердцам иссохшим вновь цветы дарит весна.
Лишь там, средь них, прибежище осталось
Для верящих надежде, молодых,
Для стариков, чей дух гнетет усталость
И пустота. Как множество других,
Из этих чувств и мой рождался стих,
Но вещи есть, действительность которых
Прекрасней лучших вымыслов людских,
Пленительней, чем всех фантазий ворох,
Чем светлых муз миры и звезды в их просторах.
Их видел я, иль это было сном?
Пришли — как явь, ушли — как сновиденья.
Не знаю, что сказать о них в былом,
Теперь они — игра воображенья.
Я мог бы вызвать вновь без напряженья
И сцен, и мыслей, им подобных, рой.
Но мимо! Пусть умрут без выраженья!
Для разума открылся мир иной,
Иные голоса уже владеют мной.
Я изучил наречия другие,
К чужим входил не чужестранцем я.
Кто независим, тот в своей стихии,
В какие ни попал бы он края, —
И меж людей, и там, где нет жилья,
Но я рожден на острове Свободы
И Разума — там родина моя,
Туда стремлюсь! И пусть окончу годы
На берегах чужих, среди чужой Природы,
И мне по сердцу будет та страна,
И там я буду тлеть в земле холодной —
Моя душа! Ты в выборе вольна.
На родину направь полет свободный,
И да останусь в памяти народной,
Пока язык Британии звучит,
А если будет весь мой труд бесплодный
Забыт людьми, как ныне я забыт,
И равнодушие потомков оскорбит
Того, чьи песни жар в сердцах будили, —
Могу ль роптать? Пусть в гордый пантеон
Введут других, а на моей могиле
Пусть будет древний стих напечатлен:
«Среди спартанцев был не лучшим он».[171]
Шипами мной посаженного древа —
Так суждено! — я сам окровавлен,
И, примирясь, без горечи, без гнева
Я принимаю плод от своего посева.
Тоскует Адриатика-вдова:
Где дож, где свадьбы праздник ежегодный?
Как символ безутешного вдовства
Ржавеет «Буцентавр»,[172] уже негодный.
Лез Марка стал насмешкою бесплодной
Над славою, влачащейся в пыли,
Над площадью, где, папе неугодный,
Склонился император[173] и несли
Дары Венеции земные короли.
Где сдался шваб[174] — австриец[175] твердо стал.
Тот был унижен, этот — на престоле.
Немало царств низверг столетий шквал,
Немало вольных городов — в неволе.
И не один, блиставший в главной роли,
Как с гор лавина, сброшенный судьбой,
Народ великий гаснет в жалкой доле, —
Где Дандоло,[176] столетний и слепой,
У византийских стен летящий первым в бой!
Пусть кони Марка[177] сбруей золотой
И бронзой блещут в ясную погоду,
Давно грозил им Дориа[178] уздой —
И что же? Ныне Габсбургам в угоду
Свою тысячелетнюю свободу
Оплакивать Венеция должна;
О, пусть уйдет, как водоросли в воду,
В морскую глубь, в родную глубь она,
Коль рабство для нее — спокойствия цена.
Ей был, как Тиру, дан великий взлет,
И даже в кличке выражена сила:
«Рассадник львов»[179] прозвал ее народ —
За то, что флаг по всем морям носила,
Что от Европы турок отразила.[180]
О древний Крит, великой Трои брат!
В твоих волнах — ее врагов могила.
Лепанто, помнишь схватку двух армад?
Ни время, ни тиран тех битв не умалят.
Но статуи стеклянные разбиты,
Блистательные дожи спят в гробах,
Лишь говорит дворец их знаменитый
О празднествах, собраньях и пирах.
Чужим покорен меч, внушавший страх,
И каждый дом — как прошлого гробница.
На площадях, на улицах, мостах
Напоминают чужеземцев лица,
Что в тягостном плену Венеция томится.
Когда Афины шли на Сиракузы[181]
И дрогнули, быть может, в первый раз,
От рабьих пут лишь гимн афинской музы,
Стих Еврипида, сотни граждан спас.[182]
Их победитель, слыша скорбный глас
Из уст сынов афинского народа,
От колесницы их отпряг тотчас
И вместе с ними восхвалил рапсода,
Чьей лирою была прославлена Свобода.
Венеция! Не в память старины,
Не за дела, свершенные когда-то,
Нет, цепи рабства снять с тебя должны
Уже за то, что и доныне свято
Ты чтишь, ты помнишь своего Торквато.
Стыд нациям! Но Англии — двойной!
Морей царица! Как сестру иль брата,
Дитя морей своим щитом укрой.
Ее закат настал, но далеко ли твой?
Венецию любил я с детских дней,
Она была моей души кумиром,
И в чудный град, рожденный из зыбей,
Воспетый Радклиф,[183] Шиллером, Шекспиром,
Всецело веря их высоким лирам,
Стремился я, хотя не знал его.
Но в бедствиях, почти забытый миром,
Он сердцу стал еще родней того,
Который был как свет, как жизнь, как волшебство!
Я вызываю тени прошлых лет,
Я узнаю, Венеция, твой гений,
Я нахожу во всем живой предмет
Для новых чувств и новых размышлений,
Я словно жил в твоей поре весенней,
И эти дни вошли в тот светлый ряд
Ничем не истребимых впечатлений,
Чей каждый звук, и цвет, и аромат
Поддерживает жизнь в душе, прошедшей ад.
Но где растут стройней и выше ели?
На высях гор, где камень да гранит,
И где земля от стужи, и метели,
И от альпийских бурь не оградит,
И древние утесы им не щит.
Стволы их крепнут, корни в твердь пуская,
И гор достоин их могучий вид.
Им нет соперниц. И как ель такая,
И зреет и растет в борьбе душа людская.
Возникла жизнь — ей бремя не стряхнуть.
Корнями вглубь вонзается страданье
В бесплодную, иссушенную грудь.
Но что ж — верблюд несет свой груз в молчанье!
А волк и при последнем издыханье
Не стонет, — но ведь низменна их стать.
Так если мы — высокие созданья,
Не стыдно ли стонать или кричать?
Наложим на уста молчания печать.
Страданье иль убьет, иль умирает,
И вновь, невольник призрачных забот,
Свой горький путь страдалец повторяет
И жизни ткань из той же нити ткет.
Другой, устав, узнав душевный гнет
И обессилев, падает, в паденье
Измяв тростник, неверный свой оплот.
А третий мнит найти успокоенье —
Чтоб вознестись иль пасть — в добре иль преступленье.
Но память прошлых горестей и бед
Болезненна, как скорпиона жало.
Он мал, он еле видим, жгучий след,
Но он горит — и надобно так мало,
Чтоб вспомнить то, что душу истерзало.
Шум ветра — запах — звук — случайный взгляд
Мелькнули — и душа затрепетала,
Как будто электрический разряд
Ее включает в цепь крушений, слез, утрат.
Как? Почему? Но кто проникнуть мог
Во тьму, где Духа молния родится?
Мы чувствуем удар, потом ожог,
И от него душа не исцелится.
Пустяк, случайность — и всплывают лица,
И сколько их, то близких, то чужих,
Забытых иль успевших измениться,
Любимых, безразличных, дорогих…
Их мало, может быть, и все ж как много их!
Но в сторону увел я мысль мою.
Вернись, мой стих, чтоб созерцать былое,
Где меж руин руиной я стою,
Где мертвое прекрасно, как живое,
Где обрело величие земное
В высоких добродетелях оплот,
Где обитали боги и герои,
Свободные — цари земли и вод, —
И дух минувших дней вовеки не умрет.
Республика царей — иль граждан Рима!
Италия, осталась прежней ты,
Искусством и Природою любима,
Земной эдем, обитель красоты,
Где сорняки прекрасны, как цветы,
Где благодатны, как сады, пустыни,
В самом паденье — дивный край мечты,
Где безупречность форм в любой руине
Бессмертной прелестью пленяет мир доныне.
Взошла луна, но то не ночь — закат
Теснит ее, полнебом обладая.
Как в нимбах славы, Альп верхи горят.
Фриулы[184] скрыла дымка голубая.
На Западе, как радуга, играя,
Перемешал все краски небосвод,
И день уходит в Вечность, догорая,
И, отраженный в глуби синих вод,
Как остров чистых душ, Селены диск плывет!
А рядом с ней звезда — как две царицы
На полусфере неба. Но меж гор,
На солнце рдея, марево клубится —
Там ночи день еще дает отпор,
И лишь природа разрешит их спор,
А Бренты шум — как плач над скорбной урной,
Как сдержанный, но горестный укор,
И льнет ее поток темно-лазурный
К пурпурным розам, и закат пурпурный
Багрянцем брызжет в синий блеск воды,
И, многоцветность неба отражая, —
От пламени заката до звезды, —
Вся в блестках вьется лента золотая.
Но вскоре тень от края и до края
Объемлет мир, и гаснет волшебство.
День — как дельфин, который, умирая,
Меняется в цветах — лишь для того,
Чтоб стать в последний миг прекраснее всего.
Есть в Аркуа[185] гробница на столбах,
Где спит в простом гробу без украшений
Певца Лауры одинокий прах.
И здесь его паломник славит гений
Защитника страны от унижений —
Того, кто спас Язык в годину зла,
Но ту одну избрал для восхвалений,
Кто лавра соименницей была
И лавр бессмертия поэту принесла.
Здесь, в Аркуа, он жил, и здесь сошел он
В долину лет под кровлею своей.
Зато крестьянин, гордым чувством полон, —
А есть ли гордость выше и честней? —
К могиле скромной позовет гостей
И в скромный домик будет верным гидом.
Поэт был сам и ближе и родней
Селу в горах с широким, вольным видом,
Чем пышным статуям и грозным пирамидам.
И тот, кто смертность ощутил свою,
Приволье гор, укромное селенье
Иль пинию, склоненную к ручью,
Как дар воспримет, как благословенье.
Там от надежд обманутых спасенье, —
Пускай жужжат в долинах города,
Он не вернется в их столпотворенье,
Он не уйдет отсюда никогда.
Тут солнце празднично — в его лучах вода,
Земля и горы, тысячи растений,
Источник светлый, — все твои друзья,
Здесь мудрость — ив бездеятельной лени,
Когда часы у светлого ручья
Текут кристальны, как его струя.
Жить учимся мы во дворце убогом,
Но умирать — на лоне бытия,
Где спесь и лесть остались за порогом,
И человек — один и борется лишь с богом
Иль с демонами Духа, что хотят
Ослабить мысль и в сердце угнездиться,
Изведавшем печаль и боль утрат, —
В том сердце, что, как пойманная птица,
Дрожит во тьме, тоскует и томится,
И кажется, что ты для мук зачат,
Для страшных мук, которым вечно длиться,
Что солнце — кровь, земля — и тлен и смрад,
Могила — ад, но ад — страшней, чем Дантов ад.
Феррара![186] Одиночеству не место
В широкой симметричности твоей.
Но кто же здесь не вспомнит подлых Эсте,
Тиранов, мелкотравчатых князей,
Из коих не один был лицедей —
То друг искусства, просветитель новый.
То, через час, отъявленный злодей,
Присвоивший себе венок лавровый,
Который до него лишь Дант носил суровый.
Их стыд и слава — Тассо! Перечти
Его стихи, пройди к ужасной клети,
Где он погиб, чтобы в века войти, —
Его Альфонсо[187] кинул в стены эти,
Чтоб, ослеплен, безумью брошен в сети,
Больничным адом нравственно убит,
Он не остался в памяти столетий.
Но, деспот жалкий, ты стыдом покрыт,
А славу Тассо мир еще и ныне чтит,
Произнося с восторгом это имя,
Твое же, сгнив, забылось бы давно,
Когда бы злодеяньями своими,
Как мерзкое, но прочное звено,
В судьбу поэта не вплелось оно.
И, облаченный княжеским нарядом,
Альфонсо, ты презренен все равно —
Раб, недостойный стать с поэтом рядом,
Посмевший дар его душить тюремным смрадом.
Как бык, ты ел, — зачем? — чтоб умереть.
Вся разница лишь в корме да в жилища,
Его же нимб сиял и будет впредь
Сиять все ярче, радостней и чище,
Хоть гневу Круски дал он много пищи,[188]
Хоть Буало[189] не видел в нем добра
(Апологет стряпни французов нищей —
Докучных, как зуденье комара,
Трескучих вымыслов бессильного пера).
Ты среди нас живешь священной тенью!
Ты был, Торквато, обойден судьбой,
Ты стал для стрел отравленных мишенью,
Неуязвим и мертвый, как живой.
И есть ли бард, сравнившийся с тобой?
За триста лет поэтов много было,
Но ты царишь один над их толпой.
Так солнце есть, и никакая сила,
Собрав его лучи, не повторит светила.
Да! Только средь его же земляков
Предшественники были, мой читатель,
Не менее великие. Таков
«Божественной Комедии» создатель[190]
Иль чудных небылиц изобретатель,
Тот южный Скотт,[191] чей гений столь же смел,
Кто, как романов рыцарских слагатель —
Наш Ариосто северный, воспел
Любовь, и женщину, и славу бранных дел.
Был молнией на бюсте Ариосто
Венец расплавлен и на землю сбит.
Стихия дело разрешила просто:
Железу лавром быть не надлежит.
Как лавров Славы гром не сокрушит,
Так сходство с лавром лишь глупца обманет.
Но суеверье попусту дрожит:
Рассудок трезвый по-другому взглянет —
Гром освящает то, во что стрелою грянет.
Зачем печать высокой красоты,
Италия! твоим проклятьем стала?
Когда б была не столь прекрасна ты,
От хищных орд ты меньше бы страдала.
Ужель еще стыда и горя мало?
Ты молча терпишь гнет чужих держав!
Тебе ль не знать могущество кинжала!
Восстань, восстань — и, кровопийц прогнав,
Яви нам гордый свой, вольнолюбивый нрав!
Тогда бы ты, могуществом пугая,
Ничьих желаний гнусных не влекла,
И красота, доныне роковая,
Твоим самоубийством не была.
Войска бы не катились без числа
В долины Альп глумиться над тобою,
И ты б чужих на помощь не звала,
Сама не в силах дать отпор разбою, —
Твоих заступников не стала бы рабою.
Я плавал в тех краях, где плавал друг
Предсмертной образованности Рима,
Друг Цицерона.[192] Было все вокруг,
Как в оны дни. Прошла Мегара мимо,
Пирей маячил справа нелюдимо,
Эгина[193] сзади. Слева вознесен,
Белел Коринф.[194] А море еле зримо
Качало лодку, и на всем был сон.
Я видел ряд руин — все то, что видел он.
Руины! Сколько варварских халуп
Поставили столетья рядом с ними!
И оттого, хотя он слаб и скуп,
Останний луч зари, сиявшей в Риме,
Он тем для нас прекрасней, тем любимей.
Уже и Сервий лишь оплакать мог
Все, от чего осталось только имя,
Бег времени письмо его сберег,
И в нем для нас большой и горестный урок.
И вслед за ним я в путевой тетрадке
Погибшим странам вздох мой посвятил.
Он с грустью видел родину в упадке,
Я над ее обломками грустил.
В столетьях вырос длинный счет могил,
На Рим великий буря налетела,
И рухнул Рим,[195] и жар давно остыл
В останках титанического тела.
Но дух могучий зрим, и только плоть истлела.
Италия! Должны народы встать
За честь твою, раздоры отметая,
Ты мать оружья, ты искусства мать,
Ты веры нашей родина святая.
К тебе стремятся — взять ключи от рая
Паломники со всех земных широт.
И верь, бесчестье матери карая,
Европа вся на варваров пойдет
И пред тобой в слезах раскаянья падет.
Но вот нас манит мраморами Арно.
В Этрурии[196] наследницу Афин[197]
Приветствовать мы рады благодарно,
Среди холмов зеленых, и долин,
Зерна, и винограда, и маслин,
Среди природы щедрой и здоровой,
Где жизнь обильна, где неведом сплин,
И к роскоши привел расцвет торговый,
Зарю наук воззвав из тьмы средневековой.
Любви богиня силой красоты
Здесь каждый камень дивно оживила,
И сам бессмертью причастишься ты,
Когда тебя радушно примет вилла,[198]
Где мощь искусства небо нам открыла
Языческой гармонией резца,
Которой и природа уступила,
Признав победу древнего творца,
Что создал идеал и тела и лица.
Ты смотришь, ты не в силах с ней проститься,
Ты к ней пришел — и нет пути назад!
В цепях за триумфальной колесницей
Искусства следуй, ибо в плен ты взят.
Но этот плен, о, как ему ты рад!
На что здесь толки, споры, словопренья,
Педантства и бессмыслицы парад!
Нам голос мысли, чувства, крови, зренья
Твердит, что прав Парис и лишни заверенья.
Такой ли шла ты к принцу-пастуху,
Такая ли к Анхизу приходила?
Такая ли, покорствуя греху,
Ты богу битв лукаво кровь мутила,
Когда он видел глаз твоих светила,
К твоей груди приникнув головой,
А ты любви молила, ты любила,
И поцелуев буре огневой
Он отдавал уста, как раб смиренный твой.
Но бог, любя, не пел любовных песен,
Он в красках чувство выразить не мог.
Он был, как мы, влюбленный, бессловесен,
И смертному уподоблялся бог.
Часов любви не длит упрямый рок,
Но смертный помнит краски, ароматы,
Сердечный трепет — вечности залог,
И памятью и опытом богатый,
Ужели он не бог, творец подобных статуй!
Пусть, мудростью красуясь наживной,
Художнической братьи обезьяна,
Его эстетство — критик записной
Толкует нам изгиб ноги и стана,
Рассказывая то, что несказанно,
Но пусть зеркал не помрачает он,
Где должен без малейшего изъяна
Прекрасный образ, вечно отражен,
Примером царственным сиять для смертных жен.
В священном Санта-Кроче[199] есть гробницы,
Чьей славой Рим тысячекратно свят.
И пусть ничто в веках не сохранится
От мощи, обреченной на распад,
Они его бессмертье отстоят.
Там звездный Галилей в одном приделе,
В другом же, рядом с Альфиери, спят
Буонаротти и Макиавелли,
Отдав свой прах земле, им давшей колыбели.
Они бы, как стихии, вчетвером
Весь мир создать могли. Промчатся годы,
И может рухнуть царственный твой дом,
Италия! Но волею Природы
Гигантов равных не дали народы,
Царящие огнем своих армад.
И, как твои ни обветшали своды,
Их зори Возрожденья золотят,
И дал Канову твой божественный закат.
Но где ж, Тоскана, где три брата кровных?[200]
Где Дант, Петрарка? Горек твой ответ!
Где тот рассказчик ста новелл[201] любовных,
Что в прозе был пленительный поэт?
Иль потому он так пропал, их след,
Что Смерть, как Жизнь, от нас их отделила?
На родине им даже бюстов нет!
Иль мрамора в Тоскане не хватило,
Чтобы Флоренция сынов своих почтила?
Неблагодарный город! Где твой стыд?
Как Сципион, храним чужою сенью,[202]
Изгнанник твой, вдали твой Данте спит,[203]
Хоть внуки всех причастных преступленью
Прощенья молят пред великой тенью.
И лавр носил Петрарка не родной[204] —
Он, обучивший сладостному пенью
Всех европейских бардов, — он не твой,
Хотя ограблен был, как и рожден, тобой.[205]
Тебе Боккаччо завещал свой прах,
Но в Пантеоне ль мастер несравненный?
Напомнит ли хоть реквием в церквах,
Что он возвел язык обыкновенный
В Поэзию — мелодию сирены?
Он мавзолея славы заслужил,
Но и надгробье снял ханжа презренный,[206]
И гению нет места средь могил,
Чтобы и вздохом тень прохожий не почтил.
Да, в Санта-Кроче величайших нет.
Но что с того? Не так ли в Древнем Риме,
Когда на имя Брута лег запрет,[207]
Лишь слава Брута стала ощутимей.
И Данте сон валами крепостными
Равенна благодарная хранит.
И в Аркуа кустами роз живыми
Певца Лауры смертный холм увит.
Лишь мать-Флоренция об изгнанных скорбит.
Так пусть вельможам, герцогам-купцам
Воздвиглись пирамиды из агата,
Порфира, яшмы, — это льстит глупцам!
Когда роса ложится в час заката
Иль веет ночь дыханьем аромата
На дерн могильный — вот он, мавзолей
Титанам, уходящим без возврата.
Насколько он прекрасней и теплей
Роскошных мраморов над прахом королей!
Скульптура вместе с радужной сестрой
Собор над Арно в чудо превратила.
Я свято чту искусств высокий строй,
Но сердцу все ж иное чудо мило:
Природа — море, облака, светила;
Я рад воспеть шедевры галерей,
Но даже то, что взор мой поразило,
Не рвется песней из души моей.
Есть мир совсем иной, где мой клинок верней.
Где зыблется в теснине Тразимена,
Где для мечты — ее желанный дом.
Здесь победила хитрость Карфагена,[208]
И, слишком рано гордый торжеством,
Увидел Рим орлов своих разгром,
Не угадав засаду Ганнибала,
И, как поток, в ущелье роковом
Кровь римская лилась и клокотала,
И, рухнув, точно лес от буревала,
Горой лежали мертвые тела, —
Храбрейшим, лучшим не было спасенья,
И жажда крови так сильна была,
Что, видя смерть, в безумстве исступленья
Никто не замечал землетрясенья,
Хотя бы вдруг разверзшийся провал,
Усугубляя ужас истребленья,
Коней, слонов и воинов глотал.
Так ненависть слепа, и целый мир ей мал.
Земля была под ними как челнок,
Их уносивший в вечность, без кормила,
И руль держать никто из них не мог,
Затем что в них бушующая сила
Самой Природы голос подавила —
Тот страх, который гонит вдаль стада,
Взметает птиц, когда гроза завыла,
И сковывает бледные уста, —
Так, словно человек умолкнул навсегда.
Как Тразимена изменилась ныне!
Лежит, как щит серебряный, светла.
Кругом покой. Лишь мирный плуг в долине
Земле наносит раны без числа.
Там, где лежали густо их тела,
Разросся лес. И лишь одна примета
Того, что кровь когда-то здесь текла,
Осталась для забывчивого света:
Ручей, журчащий здесь, зовется Сангвинетто.[209]
А ты, Клитумн, о светлая волна,
Кристалл текучий, где порой, нагая,
Купается, в струях отражена,
Собой любуясь, нимфа молодая;
Прозрачной влагой берега питая,
О, зеркало девичьей красоты,
О, благосклонный бог родного края,
Забыв войну, растишь и холишь ты
Молочно-белый скот, и травы, и цветы.
Лишь небольшой, но стильный, стройный храм,
Как память лет, что в битвах отгремели,
Глядит с холма, ближайшего к волнам,
И видно, как в прозрачной их купели
Гоняются и прыгают форели,
А там, где безмятежна глубина,
Нимфеи спят, колышась еле-еле,
И, свежести пленительной полна,
Пришельца сказками баюкает волна.
Благословен долины этой гений!
Когда, устав за долгий переход,
Пьешь полной грудью аромат растений,
И вдруг в лицо прохладою дохнет,
И, наконец, ты, смыв и пыль и пот,
Садишься в тень, на склон реки отлогий,
Сама душа Природе гимн поет,
Дарующей такой приют в дороге,
Где далеко и жизнь, и все ее тревоги.
Но как шумит вода! С горы в долину
Гигантской белопенною стеной —
Стеной воды! — свергается Велико,
Все обдавая бурей водяной.
Пучина Орка! Флегетон шальной!
Кипит, ревет, бурлит, казнимый адом,
И смертным потом — пеной ледяной —
Бьет, хлещет по утесистым громадам,
Как бы глумящимся над злобным водопадом,
Чьи брызги рвутся к солнцу и с небес,
Как туча громоносная в апреле,
Дождем струятся на поля, на лес,
Чтобы они смарагдом зеленели,
Не увядая. В тьму бездонной щели
Стихия низвергается, и вот
Из бездны к небу глыбы полетели,
Низринутые вглубь с родных высот
И вновь летящие, как ядра, в небосвод,
Наперекор столбу воды, который
Так буйно крутит и швыряет их,
Как будто море, прорывая горы,
Стремится к свету из глубин земных
И хаос бьется в муках родовых —
Не скажешь: рек источник жизнедарный!
Нет, он, как Вечность, страшен для живых,
Зеленый, белый, голубой, янтарный,
Обворожающий, но лютый и коварный.
О, Красоты и Ужаса игра!
По кромке волн, от края и до края,
Надеждой подле смертного одра
Ирида светит, радугой играя,
Как в адской бездне луч зари, живая,
Нарядна, лучезарна и нежна,
Над этим мутным бешенством сияя,
В мильонах шумных брызг отражена,
Как на Безумие — Любовь, глядит она,
И вновь я на лесистых Апеннинах —
Подобьях Альп. Когда б до этих пор
Я не бывал на ледяных вершинах,
Не слышал, как шумит под фирном бор
И с грохотом летят лавины с гор,
Я здесь бы восхищался непрестанно,
Но Юнгфрау мой чаровала взор,
Я видел выси мрачного Монблана,
Громовершинную, в одежде из тумана,
Химари — и Парнас, и лет орлов,
Над ним как бы соперничавших славой,
Взмывавших выше гор и облаков;
Я любовался Этной величавой,
Я, как троянец, озирал дубравы
Лесистой Иды, я видал Афон,
Олимп, Соракт, уже не белоглавый,
Лишь тем попавший в ряд таких имен,
Что был Горацием в стихах прославлен он,
Девятым валом вставший средь равнины,
Застывший на изломе водопад, —
Кто любит дух классической рутины,
Пусть эхо будит музыкой цитат.
Я ненавидел этот школьный ад,
Где мы латынь зубрили слово в слово,
И то, что слушал столько лет назад,
Я не хочу теперь услышать снова,
Чтоб восхищаться тем, что в детстве так сурово
Вколачивалось в память. С той поры
Я, правда, понял важность просвещенья,
Я стал ценить познания дары,
Но, вспоминая школьные мученья,
Я не могу внимать без отвращенья
Иным стихам. Когда бы педагог
Позволил мне читать без принужденья, —
Как знать, — я сам бы полюбить их мог,
Но от зубрежки мне постыл их важный слог.
Прощай, Гораций, ты мне ненавистен,
И горе мне! Твоя ль вина, старик,
Что красотой твоих высоких истин
Я не пленен, хоть знаю твой язык.
Как моралист, ты глубже всех постиг
Суть жизни нашей. Ты сатирой жгучей
Не оскорблял, хоть резал напрямик.
Ты знал, как бог, искусства строй певучий,
И все ж простимся — здесь, на Апеннинской круче.
Рим! Родина! Земля моей мечты!
Кто сердцем сир, чьи дни обузой стали,
Взгляни на мать погибших царств — и ты
Поймешь, как жалки все твои печали.
Молчи о них! Пройди на Тибр и дале,
Меж кипарисов, где сова кричит,
Где цирки, храмы, троны отблистали,
И однодневных не считай обид:
Здесь мир, огромный мир в пыли веков лежит.
О Древний Рим! Лишенный древних прав,
Как Ниобея — без детей, без трона,
Стоишь ты молча, свой же кенотаф.
Останков нет в гробнице Сципиона,
Как нет могил, где спал во время оно
Прах сыновей твоих и дочерей.
Лишь мутный Тибр струится неуклонно
Вдоль мраморов безлюдных пустырей.
Встань, желтая волна, и скорбь веков залей!
Пожары, войны, бунты, гунн и гот, —
О, смерч над семихолмною столицей!
И Рим слабел, и грянул страшный год:
Где шли в цепях, бывало, вереницей
Цари за триумфальной колесницей,
Там варвар стал надменною пятой
На Капитолий. Мрачною гробницей
Простерся Рим, пустынный и немой.
Кто скажет: «Он был здесь», — когда двойною тьмой,
Двойною тьмой — незнанья и столетий
Закрыт его гигантский силуэт,
И мы идем на ощупь в бледном свете;
Есть карты мира, карты звезд, планет,
Познание идет путем побед,
Но Рим лежит неведомой пустыней,
Где только память пролагает след.
Мы «Эврика!» кричим подчас и ныне,
Но то пустой мираж, подсказка стертых линий.
О Рим! Не ты ль изведал торжество
Трехсот триумфов![210] В некий день священный
Не твой ли Брут вонзил кинжал в того,
Кто стать мечтал диктатором вселенной!
Тит Ливии, да Вергилий вдохновенный,
Да Цицерон — в них воскресает Рим.
Все остальное — прах и пепел бренный,
И Рим свободный — он неповторим!
Его блестящих глаз мы больше не узрим.
Ты, кто орлов над Азией простер
И рвался дальше в бранном увлеченье,
Ты, Сулла, чей победоносный взор
Не разглядел, что Рим готовит мщенье:
Народ — за кровь, сенат — за униженье
(Один твой взгляд — и подчинялся он), —
Ты все впитал: порок и преступленье,
Но, Рима сын, храня небрежный тон,
С улыбкой отдал то, что более, чем трон,
Давало власть — диктаторское право.
Ты мог ли знать, что Рим, его оплот,
Возвысившая цезарей держава —
Всесильный Рим, — когда-нибудь падет,
Что в Рим царить не римлянин придет,
Он — «Вечный град» в сознанье поколений,
Он, крыльями обнявший небосвод,
Не знающий проигранных сражений,
Он будет варваром поставлен на колени!
Как Сулла — первый корифей войны,
Так первый узурпатор, от природы,
Наш Кромвель.[211] Для величия страны,
Для вечной славы и за миг свободы
Он отдал мрачным преступленьям годы,
Прогнал сенат и сделал плахой трон.
Священный бунт! Но вам мораль, народы:
В день двух побед был смертью награжден[212]
Некоронованный наследник двух корон.
В тот самый месяц, третьего числа,
Отвергнув трон, но больше, чем на троне,
Он опочил, и смерть к нему пришла,
Чтобы в могильном упокоить лоне.
Не в высшем ли начертано законе,
Что слава, власть — предмет вражды людской —
Не стоят нашей яростной погони,
Что там, за гробом, счастье и покой.
Усвой мы эту мысль — и станет жизнь другой.
А ты, ужасный монумент Помпея,
Пред кем, обрызгав кровью пьедестал,
Под крик убийц пал Цезарь[213] и, слабея,
Чтобы сыграть достойно свой финал,
Закрывшись тогой, молча умирал, —
В нагом величье, правда ль, в этом зале
Ты алтарем богини мщенья стал?
Мертвы ль вы оба? Что за роль играли?
Быть может, кукол роль, хоть в плен царей вы брали?
А ты, в кого ударил дважды гром,
Доныне, о священная волчица,
Млеко побед, которым вскормлен Рем,
Из бронзовых сосцов твоих сочится.
Навек — музея древностей жилица,
От жгучих стрел Юпитера черна,
Чтоб вечно Рим тобою мог гордиться,
Мать смелых! Вечно ты стоять должна
И город свой хранить, как в оны времена.
Храни его! Но тех людей железных
Давно уж нет. Мир города воздвиг
На их могилах. В войнах бесполезных
Им подражало множество владык,
Но их пугало то, что Рим велик
И нет меж ними равного судьбою,
Иль есть один, и он всего достиг,
Но, честолюбец, вставший над толпою,
Он — раб своих рабов[214] — низвергнут сам собою.
Лжевластью ослепленный, он шагал,
Поддельный Цезарь, вслед за неподдельным,
Но римлянин прошел другой закал:
Страсть и рассудок — все в нем было цельным.
Он был могуч инстинктом нераздельным,
Который все в гармонии хранит,
Гость Клеопатры[215] — подвигам смертельным
За прялкой изменяющий Алкид,[216] —
Который вновь пойдет, увидит, победит,
И вот он Цезарь вновь! А тот, хотящий,
Чтоб стал послушным соколом орел,
Перед французской армией летящий,
Которую путем побед он вел, —
Тому был нужен Славы ореол,
И это все. Он раболепство встретил,
Но сердцем был он глух. Куда он шел?
И в Цезари — с какою целью метил?
Чем, кроме славы, жил? Он сам бы не ответил.
Ничто иль все! Таков Наполеон.
А не накличь он свой конец печальный,
Он был бы, словно Цезарь, погребен,
Чей прах топтать готов турист нахальный.
И вот мечта об арке Триумфальной,
Вот кровь и слезы страждущей Земли,
Потоп, бурлящий с силой изначальной!
Мир тонет в нем, и нет плота вдали…
О боже, не ковчег, хоть радугу пошли!
Жизнь коротка, стеснен ее полет,
В суждениях не терпим мы различий.
А Истина — как жемчуг в глуби вод.
Фальшив отяготивший нас обычай.
Средь наших норм, условностей, приличий
Добро случайно, злу преграды нет,
Рабы успеха, денег и отличий,
На мысль и чувство наложив запрет,
Предпочитают тьму, их раздражает свет.
И так живут в тупой, тяжелой скуке,
Гордясь собой, и так во гроб сойдут.
Так будут жить и сыновья и внуки,
И дальше рабский дух передадут,
И в битвах за ярмо свое падут,
Как падал гладиатор на арене.
Не за свободу, не за вольный труд, —
Так братья гибли: сотни поколений,
Сметенных войнами, как вихрем — лист осенний.
О вере я молчу — тут каждый сам
Решает с богом, — я про то земное,
Что так понятно, ясно, близко нам, —
Я разумею то ярмо двойное,
Что нас гнетет при деспотичном строе,
Хоть нам и лгут, что следуют тому,
Кто усмирял надменное и злое,
С земных престолов гнал и сон и тьму,
За что одно была б вовек хвала ему.
Ужель тирану страшны лишь тираны?
Где он, Свободы грозный паладин,
Каким, Минерва девственной саванны,
Колумбия, был воин твой и сын?[217]
Иль, может быть, такой в веках один,
Как Вашингтон, чье сердце воспиталось
В глухих лесах, близ гибельных стремнин?
Иль тех семян уж в мире не осталось
И с жаждой вольности Европа расквиталась?
Пьяна от крови, Франция в те дни
Блевала преступленьем. Все народы
Смутила сатурналия резни,[218]
Террор, тщеславье, роскошь новой моды, —
Так мерзок был обратный лик Свободы,
Что в страхе рабству мир себя обрек,[219]
Надежде вновь сказав «прости» на годы.
Вторым грехопаденьем в этот век
От Древа Жизни был отторгнут человек.
И все-таки твой дух, Свобода, жив,
Твой стяг под ветром плещет непокорно,
И даже бури грохот заглушив,
Пускай, хрипя, гремит твоя валторна.
Ты мощный дуб, дающий лист упорно, —
Он топором надрублен, но цветет.
И Вольностью посеянные зерна
Лелеет Север, и настанет год,
Когда они дадут уже не горький плод.
Вот почернелый мрачный бастион.[220]
Часть крепости, обрушиться готовой,
Врагам отпор давал он испокон,
Фронтон его, изогнутый подковой,
Плюща гирляндой двадцативековой,
Как Вечности венком, полузакрыт.
Чем был, что прятал он в тот век суровый?
Не клад ли в подземелье был зарыт?
Нет, тело женщины, — так быль нам говорит.
Зачем твой склеп — дворцовый бастион?
И кто ты? Как жила? Кого любила?
Царь или больше — римлянин был он?
Красавиц дочек ты ему дарила,
Иль вождь, герой, чья необорна сила,
Тобой рожден был? Как ты умерла?
Боготворимой? Да! Твоя могила
Покоить низших саном не могла,
И в ней ты, мертвая, бессмертье обрела.
А муж твой — не любила ль ты чужого?
Такие страсти знал и Древний Рим.
Была ль ты, как Корнелия,[221] сурова,
Служа супругу, детям и родным
И нет! сказав желаниям иным,
Иль, как Египта дерзкая царица,
Жила лишь наслаждением одним?
Была грустна? Любила веселиться?
Но грусть любви всегда готова в радость влиться.
Иль, сокращая век твой, как скала,
Тебя давило горе непрестанно?
Иль ты богов любимицей была
И оттого сошла в могилу рано?
И туча, близясь грозно и туманно,
Обрушила на жизнь твою запрет,
А темный взор, порой блестевший странно,
Был признаком чахотки с детских лет,
И цветом юных щек был рощ осенних цвет?