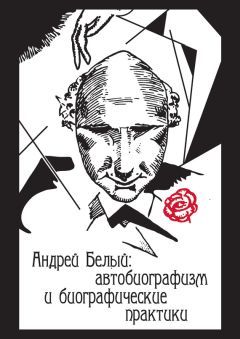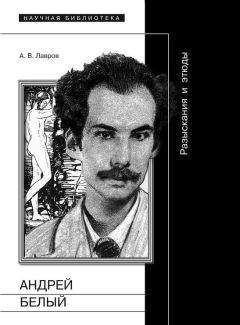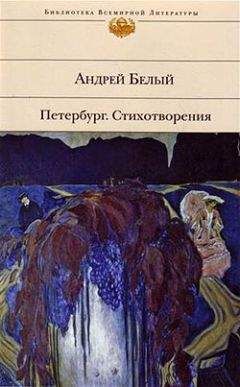Андрей Белый - Полное собрание стихотворений
1908
Москва
Весенняя грусть
Одна сижу меж вешних верб.
Грустна, бледна: сижу в кручине.
Над головой снеговый серп
Повис, грустя, в пустыне синей.
А были дни: далекий друг,
В заросшем парке мы бродили.
Молчал: но пальцы нежных рук,
Дрожа, сжимали стебли лилий.
Молчали мы. На склоне дня
Рыдал рояль в старинном доме.
На склоне дня ты вел меня,
Отдавшись ласковой истоме,
В зеленоватый полусвет
Прозрачно зыблемых акаций,
Где на дорожке силуэт
Обозначался белых граций.
Теней неверная игра
Под ним пестрила цоколь твердый.
В бассейны ленты серебра
Бросали мраморные морды.
Как снег бледна, меж тонких верб
Одна сижу. Брожу в кручине.
Одна гляжу, как вешний серп
Летит, блестит в пустыне синей.
Март 1905
Москва
Предчувствие
Чего мне, одинокой, ждать?
От радостей душа отвыкла…
И бледная старушка мать
В воздушном капоре поникла, —
У вырезанных в синь листов
Завившегося винограда…
Поскрипывающих шагов
Из глубины немого сада
Шуршание: в тени аллей
Урод на костылях, с горбами,
У задрожавших тополей,
Переливающих листами,
Подсматривает всё за мной,
Хихикает там незаметно…
Я руки к выси ледяной
Заламываю безответно.
1906
Москва
Паук
Нет, буду жить – и буду пить
Весны благоуханной запах.
Пусть надо мной, где блещет нить,
Звенит комар в паучьих лапах.
Пусть на войне и стон, и крик,
И дым пороховой – пусть едок: —
Зажгу позеленевший лик
В лучах, блеснувших напоследок.
Пусть веточка росой блеснет;
Из-под нее, горя невнятно,
Пусть на меня заря прольет
Жемчужно-розовые пятна…
Один. Склонился на костыль.
И страстного лобзанья просит
Душа моя…
И ветер пыль
В холодное пространство бросит,
В лазуревых просторах носит.
И вижу —
Ты бежишь в цветах
Под мраморною, старой аркой
В пурпуровых своих шелках
И в шляпе с кисеею яркой.
Ты вот: застенчиво мила,
Склоняешься в мой лед и холод:
Ты не невестой мне цвела:
Жених твой и красив, и молод.
Дитя, о улыбнись, – дитя!
Вот рук – благоуханных лилий —
Браслеты бледные, – блестя,
Снопы лучей озолотили.
Но урони, смеясь сквозь боль.
Туда, где облака-скитальцы, —
Ну, урони желтофиоль
В мои трясущиеся пальцы!
Ты вскрикиваешь, шепчешь мне:
«Там, где ветвей скрестились дуги,
Смотри, – крестовик а вышине
Повис на серебристом круге…»
Смеешься, убегаешь вдаль;
Там улыбнулась в дали вольной.
Бежишь – а мне чего-то жаль.
Ушла – а мне так больно, больно…
Так в бирюзовую эмаль
Над старой, озлащенной башней
Kacатка малая взлетит —
И заюлит, и завизжит.
Не помня о грозе вчерашней;
За ней другая – и смотри:
За ней, повизгивая окол,
В лучах пурпуровой зари
Над глянцем колокольных стекол —
Вся черная ее семья…
Грызет меня тоска моя.
И мне кричат издалека, —
Из зарослей сырой осоки,
Что я похож на паука:
Прислушиваюсь… Смех далекий,
Потрескиванье огонька…
Приглядываюсь… Спит река…
В туманах – берегов излучья…
Туда грозит моя рука,
Сухая, мертвая… паучья…
Иду я в поле за плетень.
Рожь тюкает перепелами;
Пред изумленными очами
Свивается дневная сень.
И разольется над лугами
В ночь умножаемая тень —
Там отверзаемыми мглами,
Испепеляющими день.
И над обрывами откоса,
И над прибрежною косой
Попыхивает папироса,
Гремит и плачет колесо.
И зеленеющее просо
Разволновалось полосой…
Невыразимого вопроса —
Проникновение во всё…
Не мирового ль там хаоса
Забормотало колесо?
1908
Москва
Мать
Она и мать. Молчат – сидят
Среди алеющих азалий.
В небес темнеющих глядят
Мглу ниспадающей эмали.
«Ты милого, – склонив чепец,
Прошамкала ей мать, – забудешь,
А этот будет, как отец:
Не с костылями век пробудешь».
Над ними мраморный амур.
У ног – ручной, пуховый кролик.
Льет ярко-рдяный абажур
Свой ярко-рдяный свет на столик.
Пьет чай и разрезает торт,
Закутываясь в мех свой лисий;
Взор над верандою простер
В зари порфировые выси.
Там тяжкий месяца коралл
Зловещий вечер к долам клонит.
Там в озера литой металл
Темноты тусклые уронит; —
Тускнеющая дымом ночь
Там тусклые колеблет воды —
Там – сумерками кроет дочь,
Лишенную навек свободы.
1908
Серебряный Колодезь
Судьба
Меж вешних камышей и верб
Отражена ее кручина.
Чуть прозиявший, белый серп
Летит лазурною пустыней —
В просветах заревых огней
Сквозь полосы далеких ливней.
Урод склоняется над пей.
И всё видней ей и противней
Напудренный, прыщавый нос,
Подтянутые, злые губы,
Угарный запах папирос,
И голос шамкающий, грубый,
И лоб недобрый, восковой,
И галстук ярко огневой;
И видит —
где зеленый сук
Цветами розовыми машет
Под ветром, – лапами паук
На паутинных нитях пляшет;
Слетает с легкой быстротой,
Качается, – и вновь слетает,
И нитью бледно-золотой
Качается, а нить блистает:
Слетел, и на цветок с цветка
Ползет по росянистым кочкам.
И падает ее рука
С атласным кружевным платочком;
Платочек кружевной дрожит
На розовых ее коленях;
Беспомощно она сидит
В лиловых, в ласковых сиренях.
Качается над нею нос,
Чернеются гнилые зубы;
Угарной гарью папирос
Растянутые дышат тубы;
Взгляд оскорбительный и злой
Впивается холодной мглой,
И голос раздается грубый:
«Любовницей моею будь!»
Горбатится в вечернем свете
В крахмал затянутая грудь
В тяжелом, клетчатом жилете.
Вот над сафьянным башмачком
В лиловые кусты сирени
Горбатым клетчатым комком
Срывается он на колени.
Она сбегает под откос;
Безумие в стеклянном взгляде…
Стеклянные рои стрекоз
Летят в лазуревые глади.
На умирающей заре
Упала (тяжко ей и дурно)
В сырой росе, как серебре,
Над беломраморною урной.
Уж в черной, лаковой карете
Уехал он…
В чепце зеленом,
В колеблемом, в неверном свете,
Держа флакон с одеколоном,
Старушка мать над ней сидит,
Вся в кружевах, – молчит и плачет.
То канет в дым, то заблестит
Снеговый серп; и задымит
Туманами ночная даль;
Извечная висит печаль;
И чибис в полунощи плачет…
1906
Москва
Свадьба
Мы ждем. Ее все нет, все нет…
Уставившись на паперть храма
В свой черепаховый лорнет,
Какая-то сказала дама.
Завистливо: «Si jeune… Quelle ange…»[4]
Гляжу – туманится в вуалях:
Расправила свой флер д'оранж, —
И взором затерялась в далях.
Уж регент, руки вверх воздев,
К мерцающим, златым иконам,
Над клиросом оцепенев,
Стоит с запевшим камертоном.
Уже златит иконостас
Вечеровая багряница.
Вокруг уставились на нас
Соболезнующие лица.
Блеск золотых ее колец…
Рыдание сдавило горло
Ее, лишь свадебный венец
Рука холодная простерла.
Соединив нам руки, поп
Вкруг аналоя грустно водит,
А шафер, обтирая лоб,
Почтительно за шлейфом ходит.
Стою я, умилен, склонен,
Обмахиваясь «Chapeau claque'ом».[5]
Осыпала толпа княжон
Нас лилиями, мятой, маком.
Я принял, разгасясь в углу,
Хоть и не без предубежденья,
Напечатленный поцелуй —
Холодный поцелуй презренья.
Между подругами прошла
Со снисходительным поклоном.
Пусть в вышине колокола
Нерадостным вещают звоном, —
Она моя, моя, моя…
Она сквозь слезы улыбнулась.
Мы вывали… Ласточек семья
Над папертью, визжа, метнулась.
Мальчишки, убегая вдаль,
Со смеху прыснули невольно.
Смеюсь, – а мне чего-то жаль.
Молчит, – а ей так больно, больно.
А колокольные кресты
Сквозь зеленеющие ели
С непобедимой высоты
На небесах заогневели.
Слепительно в мои глаза
Кидается сухое лето;
И собирается гроза,
Лениво громыхая где-то.
1905–1908
Серебряный Колодезь
После венца
Глядят – невеста и жених
Из подвенечной паутины,
Прохаживаясь вдоль куртины,
Колеблемой зефиром; их —
Большой серебряный дельфин,
Плюющийся зеркальным блеском,
Из пурпуровых георгин
Окуривает водным блеском.
Медлительно струит фонтан
Шушукающий в выси лепет…
Жених, охватывая стан,
Венчальную вуаль отцепит;
В дом простучали костыли;
Слетела штора, прокачавшись.
Он – в кружевной ее пыли,
К губам губами присосавшись.
Свой купол нежно-снеговой
Хаосом пепельным обрушит —
Тот облак, что над головой
Взлетающим зигзагом душит;
И вспучилась его зола
В лучей вечеровые стрелы;
И пeпeл серый сеет мгла,
Развеивая в воздух белый;
Чтоб неба темная эмаль
В ночи туманами окрепла, —
Там водопадом топит даль
Беззвучно рушимого пепла.
1908