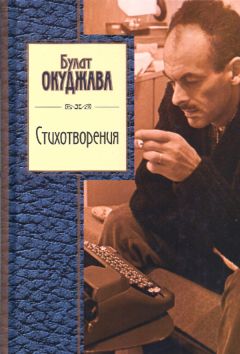Булат Окуджава - Надежды маленький оркестрик
Старинная солдатская песня
Отшумели песни нашего полка,
отзвенели звонкие копыта.
Пулями пробито днище котелка,
маркитантка юная убита.
Нас осталось мало: мы да наша боль.
Нас немного, и врагов немного.
Живы мы покуда, фронтовая голь,
а погибнем – райская дорога.
Руки на затворе, голова в тоске,
а душа уже взлетела вроде.
Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе.
Спите себе, братцы, – все придет опять:
новые родятся командиры,
новые солдаты будут получать
вечные казенные квартиры.
Спите себе, братцы, – все начнется вновь,
все должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь…
Времени не будет помириться.
Жизнь охотника
К. Ваншенкину
Первый день, первый день!
Все прекрасно, все здорово,
хоть уже на всем второго
дня
лежит косая тень.
День второй – день чудес,
день охоты, день объятий,
никаких еще проклятий
ни из уст и ни с небес.
Всё пока как будто впрок,
все еще полно значенья,
голосок ожесточенья
легкомыслен, как щенок.
Третий день – день удач.
За удачею – удача.
Удивляйся и чудачь,
поживи еще, чудача.
Нет пока лихих годин
выражений осторожных…
Бог беды на тонких ножках
в стороне бредет один.
И счастливой на века
обещает быть охота,
и вторая капля пота,
как амброзия, сладка.
День четвертый. Рука
оперлась о подлокотник…
Что-то грустен стал охотник,
нерешителен слегка.
Вездесущая молва
о возможном все страннее,
капли пота солонее,
и умеренней слова.
Счастлив будь, Сурок в норе!
Будь спокойна, Птица в небе!
Он – в раздумьях о добре,
в размышлениях о хлебе.
Из ствола не бьет дымок,
стрелы колют на лучину.
Всё, что было лишь намек,
превращается в причину.
Пятый день. Холодна
за окном стоит погода.
Нет охоты – есть работа.
Пота нет – лишь соль одна.
Отрешенных глаз свинец,
губ сухих молчанье злое…
Не похоже, чтоб скупец,
скапливающий былое.
Непохоже, чтоб глупец,
на грядущее плюющий,
пьянствующий иль непьющий,
верующий или лжец.
Может, жизнь кроя свою
на отдельные полоски,
убедился, что в авоське
больше смысла, чем в раю?..
Или он вдруг осознал,
что, спеша и спотыкаясь,
радуясь и горько каясь,
ничего не обогнал?
Что он там? Чему не рад
сам себе холоп и барин?
Был, как бес, высокопарен,
стал задумчив, как Сократ.
День шестой, день шестой…
Все теперь уже понятно:
путь туда такой простой —
это больно и приятно.
Все сбывается точь-в-точь,
как напутствие в дорогу.
Тайна улетает прочь…
Слава Богу, слава Богу.
Доберемся как-нибудь
(что нам – знойно или вьюжно?),
и увязывать не нужно
чемоданы в дальний путь.
Можно просто налегке,
не трясясь перед ошибкой,
с дерзновенною улыбкой,
словно с тросточкой в руке.
Остается для невежд
ожиданье дней, в которых
отсыревший вспыхнет порох
душ,
или раздастся шорох
вновь проснувшихся надежд.
Что ты там ни славословь,
как ты там ни сквернословь,
не кроится впрок одежда…
Жизнь длиннее, чем надежда,
но короче, чем любовь.
День седьмой.
Выходной.
Дверь открыта выходная.
Дверь открыта в проходной…
До свиданья,
проходная!
Батальное полотно
Сумерки. Природа. Флейты голос нервный.
Позднее катанье.
На передней лошади едет император
в голубом кафтане.
Серая кобыла с карими глазами,
с челкой вороною.
Красная попона. Крылья за спиною,
как перед войною.
Вслед за императором едут
генералы, генералы свиты,
славою увиты, шрамами покрыты,
только не убиты.
Следом – дуэлянты, флигель-адъютанты.
Блещут эполеты.
Все они красавцы, все они таланты,
все они поэты.
Все слабее звуки прежних клавесинов,
голоса былые.
Только топот мерный, флейты голос нервный
да надежды злые.
Все слабее запах очага и дыма,
молока и хлеба.
Где-то под ногами и над головами —
лишь земля и небо.
На берегу Великого Океана
Покуда поздняя заря еще не скована туманом,
замри, счастливый пешеход, перед Великим
Океаном:
там в синих сумерках воды, в сиреневых ее закатах
так много ангелов простых, любвеобильных
и крылатых.
Вон среди зарослей и мглы, как стройный
мальчик на крылечке,
колышется конек морской без седока
и без уздечки,
не знающий кнута и шпор, не ведающий поля
брани…
Мне слышится из глубины его загадочное ржанье.
Вон сельдь плывет среди равнин. Кто знает,
что у той селедки —
змеиный бюст, акулий нрав и сердце девочки
в середке?
Кто знает, что в ее душе, затейливой и
многогранной,
под платьицем ее смешным, в улыбке ласковой,
но странной?
То краб, то мидия, то спрут вплывают в тот
поток хрустальный,
то хищник в строгом пиджаке, то либерал
сентиментальный,
то круг медузы молодой, похожей на пирог
слоеный,
то капелька воды морской – сестра твоей
слезы соленой.
Баллада о гусаке
Лежать бы гусаку
в жаровне на боку,
да, видимо, немного
пофартило старику.
Не то чтобы хозяин
пожалел его всерьез,
а просто он гусятину
на завтра перенес.
Но гусак перед строем гусиным
ходит медленным шагом гусиным,
говорит им: «Вы видите сами,
мы с хозяином стали друзьями!»
Старается гусак
весь день и так и сяк,
чтоб доказать собравшимся,
что друг его – добряк,
но племя гусака
прошло через века
и знает, что жаровня
не валяет дурака.
Пусть гусак перед строем гусиным
машет крылышком псевдоорлиным,
но племя гусака
прошло через века
и знает, что жаровня
не валяет дурака.
«Не слишком-то изыскан вид за окнами…»
Не слишком-то изыскан вид за окнами,
пропитан гарью и гнилой водой.
Вот город, где отца моего кокнули.
Стрелок тогда был слишком молодой.
Он был обучен и собой доволен.
Над жертвою в сомненьях не кружил.
И если не убит был алкоголем,
то, стало быть, до старости дожил.
И вот теперь на отдыхе почетном
внучат лелеет и с женой в ладу.
Прогулки совершает шагом четким
и вывески читает на ходу.
То в парке, то на рынке, то в трамвае
как равноправный дышит за спиной.
И зла ему никто не поминает,
и даже не обходят стороной.
Иные времена, иные лица.
И он со всеми как навеки слит.
И у него в бумажнике – убийца
пригрелся и усами шевелит.
И, на тесемках пестрых повисая,
гитары чьи-то в полночи бренчат,
а он все смотрит, смотрит не мигая
на круглые затылочки внучат.
Из фронтового дневника
В этом поле осколки как розги
по ногам атакующих бьют.
И колючие ржавые розы
в этом поле со звоном цветут.
И идет, не пристроившись к строю,
и задумчиво тычется в пыль
днем и ночью, верста за верстою
рядовой одноногий Костыль.
У полковника Смерти ошибки:
недостача убитых в гробах —
у солдат неземные улыбки
расцветают на пыльных губах.
Скоро-скоро случится такое:
уцелевший средь боя от ран,
вдруг запросит любви и покоя
удалой капитан Барабан.
И, не зная куда и откуда,
он пойдет, как ослепший на свет…
«Неужели вы верите в чудо?!» —
поперхнется поручик Кларнет.
Прав ли он, тот Кларнет изумленный,
возвышая свой голос живой
над годами уже не зеленой,
похоронной, сожженной травой?
Прав ли он, усомнившись в покое,
разрушая надежду окрест?..
Он, бывало, кричал не такое
под какой-нибудь венский оркестр.
Мы еще его вспомним, наверно,
где-то рядом с войною самой,
как он пел откровенно и нервно…
Если сами вернемся домой.
Мы еще его вспомним-помянем,
как передний рубеж и обоз…
Если сами до света дотянем,
не останемся здесь, среди роз.
«Не будем хвастаться, что праведно живем…»
Не будем хвастаться, что праведно живем,
а разойдемся скромно по домам.
А что останется потом,
когда мы все помрем,
пусть это будет памятником нам.
И если грянет правды торжество,
пусть это будет памятником нам.
Всем станет ясно: кто – кого
и почему, и для чего…
А нынче разойдемся по домам.
«Убили моего отца…»