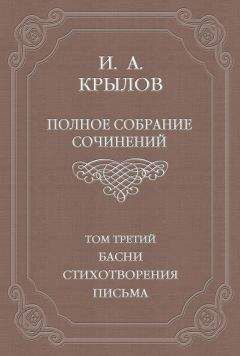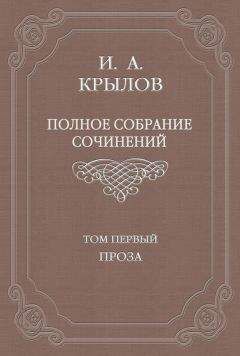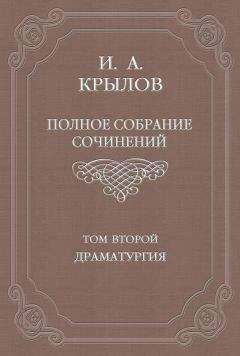Виктор Гюго - Том 12. Стихотворения
Париж, сентябрь 1850
VIII
УЖЕ НАЗВАННЫЙ
Я вынужден опять (насильно стих веду я)
Писать о трусе том, чье имя скрыла мгла,
О ком Матьё Моле, посмертно негодуя,
Беседует с д'Англа.
О Правосудие! Опора и ограда
Закона, власти, прав — священное «не тронь!»
Он двадцать лет к тебе при выплате оклада
Протягивал ладонь,
Но в дни, когда в крови валялось ты и злоба
Твою топтала грудь солдатским каблуком,
Он, отойдя, сказал: «Что это за особа?
Я с нею незнаком!»
По воле старых клик сел в кресло «страж закона»;
Нашелся манекен, где нужен был талант;
Вполз на священный стул, что звал к себе Катона,
Пасквино, пасквилянт.
Позор! Он унижал достоинство Палаты;
Ловкач, с лакеем схож, кто наглостью берет,
Он красноречию сбивал полет крылатый
Дубьем тупых острот.
Не веря ни во что, он гибок чрезвычайно;
Монк иль Кромвель — пускай: нижайший им поклон!
С Вольтером хохоча, за Эскобара тайно
Проголосует он!
Умея лишь лизать направо, грызть налево,
Он преступлению служил, слепой фигляр:
Ведь он впускал солдат, рычавших в спазме гнева,
Что нанесли удар!
Коль пожелали бы, он — от грозы спасая
Свое добро, свой пост, и жалованье с ним,
И свой колпак судьи с каймой из горностая
И с галуном тройным, —
Немедля предал бы, старался бы, трудился;
Но господами был зачеркнут в списках он:
Трус и в изменники им явно не годился;
«К чему? — сказали. — Вон!»
Власть новая ведет и грязью торг позорный,
Но и при ней, видать, он сгинет наконец —
Доитель королей, «дунайский раб» придворный,
Угрюмый, гнусный льстец!
Он предлагал себя разбойникам; но четко,
Чтоб цену сбить ему, сказали господа
(Что слышал весь Париж): «Ты, старая кокотка,
Гляди: ведь ты седа!»
Режим убийц — и тот от подлеца дал тягу
И перед обществом в двойной позор облек,
Повесив на его последнюю присягу
Стыда последний клок.
И если в мусоре, что недоступен свету
И полон тайн, крюком ворочая гнилье,
Тряпичник вдруг найдет на свалке душу эту, —
Он отшвырнет ее!
Джерси, декабрь 1852
IX
«Живые — борются!..»
Живые — борются! А живы только те,
Чье сердце предано возвышенной мечте,
Кто, цель прекрасную поставив пред собою,
К вершинам доблести идут крутой тропою
И, точно факел свой, в грядущее несут
Великую любовь или священный труд!
Таков пророк, над кем взнесен ковчег завета,
Работник, патриарх, строитель, пастырь… Это —
Все те, кто сердцем благ, все те, чьи полны дни.
И вот они — живут! Других мне жаль: они
Пьянеют скукою у времени на тризне.
Ведь самый тяжкий гнет — существовать без жизни!
Бесплодны и пусты, они влачат, рабы,
Угрюмое житье без мысли и борьбы.
Зовут их vulgus, plebs — толпа, и сброд, и стадо;
Они ревут, свистят, ликуют, где не надо,
Зевают, топчут, бьют, бормочут «нет» и «да» —
Сплошь безыменные, безликие всегда;
И бродит этот гурт, решает, судит, правит,
Гнетет; с Тиберием равно Марата славит;
В лохмотьях, в золоте, с восторгом и с тоской,
Невесть в какой провал спешит, гоним судьбой.
Они — прохожие, без возраста и целей,
Без связей, без души — комки людской кудели;
Никто не знает их, им даже нет числа;
Ничтожны их слова, стремленья и дела.
Тень смутная от них ложится, вырастая;
Для них и в яркий день повсюду тьма густая:
Ведь, крики попусту кидая вдаль и ввысь,
Они над бездною полночною сошлись.
Как! Вовсе не любить? Свершать свой путь угрюмый
Без мук пережитых, без путеводной думы?
Как! Двигаться вперед? К неведомому рву?
Хулить Юпитера, не веря в Егову?
Цветы, и женщину, и звезды презирая,
Стремиться к телу лишь, на душу не взирая?
В пустых усилиях пустых успехов ждать?
Не верить в небеса? О мертвых забывать?
О нет! Я не из вас! Будь вы сильны, надменны,
Будь вам жильем дворец или подвал презренный, —
Бегу от вас! Боюсь, — о муравьи столиц,
Сердца гнилые, сброд, пред ложью павший ниц, —
Троп ваших мерзких! Я в лесу предпочитаю
Стать деревом, чем быть душою в вашей стае!
Париж, 31 декабря 1848.
Полночь
X
ЗАРЯ
Мощным трепетом полон угрюмый простор.
В этот миг Эпикур, Гесиод, Пифагор
Предавались мечтам. В этот миг засыпали,
Утомясь созерцаньем лазоревой дали,
Полной звезд, пастухи из Халдейской земли…
Водопад многоструйный мерцает вдали,
Будто шелковый плащ отливая в тумане.
Появляется утро на траурной грани,
Розоликое, с блеском жемчужных зубов.
Бык, проснувшись, ревет. Снегирей, и дроздов,
И драчливых синиц неустанная стая
Свищет, гомоном смутным леса наполняя.
И бараны из мрака загона спешат
И под солнцем густое руно золотят.
И сонливица, свежестью споря с росою,
Черный взор приоткрыв, тронув ножкой босою
Башмачок свой китайский, шлет солнцу привет.
Богу — слава! За скрытною ночью — рассвет,
На холмах барбарис колыхнув с ежевикой,
Возрожденье дарует природе великой,
Гнезда будит привычным сияньем своим!
С хижин в небо возносится перистый дым.
Луч стрелой золотою вонзается в рощи.
Солнце — всходит! Сдержи-ка! Пожалуй что проще,
К слову чести чувствительным сделав их слух,
Тронуть души Тролона с Барошем — двух шлюх!
Джерси, 28 апреля 1853
XI
«Когда виконт Фуко овернским кулаком…»
Когда виконт Фуко овернским кулаком
Красноречивого гнал Манюэля, — гром
Прошел по всей стране: народ рычал ответно;
И море ведь кипит, чуть всколыхнется Этна.
Тут мрачною зарей блеснул Тридцатый год,
И зашатался вновь Бурбонов чванный род
На троне вековом. В то черное мгновенье
Уже наметилось гигантское крушенье…
Но род, запятнанный тем взмахом кулака,
Был все ж великим. С ним мы прожили века;
Он все ж победами блистал в ряду столетий:
Наваррец был в Кутра, святой Луи — в Дамьетте…
А вот князь каторги, — в Париже, в наши дни, —
Кому, как видно, зверь, палач Сулук сродни,
Фальшивей Розаса, Али-паши свирепей,
Впихнул закон в тюрьму, и славу кинул в цепи,
И гонит право, честь, и честность, и людей —
Избранников страны, ораторов, судей,
Ученых — лучшие таланты государства.
А наш народ, стерпев злодейство и коварство,
Сто раз отхлестанный позорно по лицу,
Но плюх не ощутив, торопится к дворцу,
На люстры поглядеть, на цезаря… В столице
Он, суверен, рабом трусит за колесницей!
Он смотрит на господ — как в Лувре, сплошь в крови,
Предатель с подлецом танцуют визави,
Убийство в орденах, и Кража в платье с треном,
И брюхачи — Берже с Мюратом непременным —
Твердят: «Живем! Прощай, надежда, идеал!»
Как будто бы таким народ французский стал,
Что даже в рабстве жить способен и — ликует!
Да! Ест и пьет, и спит, работает, торгует,
Вотирует, смеясь над урной с дном двойным…
А этот негодяй, молчальник, нелюдим,
Шакал расчетливый, голландский корсиканец,
Насытив золотом своих убийц и пьяниц,
Под балдахин взнести свое злодейство рад
И, развалясь, сидит; и видит вновь, пират,
Французский свой капкан и римский, столь же низкий,
И слизывает кровь людскую с зубочистки.
Брюссель, май 1852
XII
ЧЕТЫРЕМ УЗНИКАМ
(после их осуждения)
Честь — там, где вы теперь; гордитесь, сыновья!
И вы, два смелые поэта, вы, друзья:
К вам слава близится с лавровой ветвью гибкой!
Сразите ж, дети, суд, бесчестный и тупой:
Ты — нетленной добротой,
Ты — презрительной улыбкой.
В той зале, где господь на низость душ глядит,
Перед присяжными, чья роль — отбросить стыд,
Перед двенадцатью, чье сердце полно гнили, —
О Правосудие! — таил я мысль в уме,
Что вокруг тебя, во тьме,
Дюжину могил отрыли.
Вот вы осуждены (а им — в грядущем суд).
За что ж? Один твердил, что Франция — приют
Для всех гонимых. (Да! Я тоже вторю сыну!)
Другой — пред топором, что вновь рубить готов, —
Отомстил за крест Христов,
Оскорбляя гильотину.
Наш век жесток. Пускай! Страдальцами он свят.
И верь мне, Истина, что для меня стократ
Прекраснее, чем нимб святого благодатный,
Чем золотой престол в блистающем дворце, —
На худом твоем лице
Тень решетки казематной!
Что б в черной низости ни совершал подлец,
Клеймо неправое бог превратит в венец.
Когда страдал Христос, гоним людской враждою,
Плевок мучителя, попавший в бледный лик,
Стал на небе в тот же миг
Беззакатною звездою!
Консьержери, ноябрь 1851