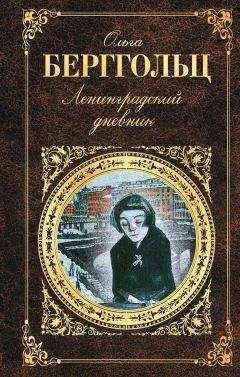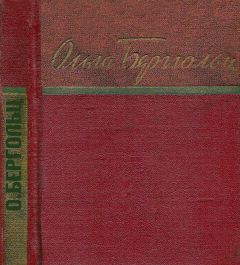Ольга Берггольц - Ольга. Запретный дневник
— Как ты думаешь, изменится ли что-нибудь после войны, — спросила я его.
— Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь, приехав в Москву, вижу, что нет…
Вот и у меня такое же чувство! Оно появилось после того, как я убедилась, что правды о Ленинграде говорить нельзя (ценою наших смертей — и то не можем добиться мы правды!) хххххххххх[116] после телеграммы Жданова о запрещении делать индив. посылки в Ленинград, после разговора с Поликарповым — и т. д. и т. д. «ОНИ» делают с нами что хотят.
Мы были слугами весел, но владыками морей…[117]
Мы, владыки морей, — слуги весел!
Была сегодня у секретаря парторганизации НКВД, — мордастый такой «деятель тыла». «Беседовали…» (не моту без судороги ненависти говорить о них!). Взял мое заявление, обещал сегодня ночью доложить наркому. Неужели что-нибудь сделают? Что-то плохо верится.
Ох, скорее бы в Ленинград, скорее бы!
Васька Ардаматский[118] говорил, будто Жильцов (пол. ПВО Л-да) говорил, что бомбы упали гл. обр. на Парголово и центр не пострадал, — значит, Юрка жив? Он все же хороший, и его любовь греет меня.
11/IV-42
Самое скверное, что, может быть, не улечу в Ленинград еще очень долго, — это может быть и 10, и 15 дней.
Надо было, плюнув на все и на всех, рваться в Ленинград в самом начале апреля, вот тогда, когда отправляла груз.
Сейчас — говорят в Аэрофлоте — развезло аэродромы, и недели полторы может не быть самолетов.
А мне кажется, что это врут, что это просто сговорились люди, опекающие меня, от Муськи до самодура Ставского[119], которые считают, что я «делаю глупость», стремясь в Ленинград, считают себя вправе заботиться обо мне, навязывать мне свою опеку и тягостную заботу о моем здоровье.
О, как я одинока без Коли, — он один, при всей трепетной его любви и обмирании за меня, не давил на меня, не отягощал меня своею любовью и заботой.
Я очень, очень люблю Муську, и мне страшно оставлять ее, маленькую, одну, но у меня же есть — пусть ошметки какие-то СВОЕЙ жизни.
Я хочу в Ленинград, хочу приняться за какое-то дело, хочу к Юрке, ждущему и жаждущему меня.
Мне день ото дня невыносимей в Москве. Да и стыдно, — агитировать за ленинградский героизм в то время, когда там Юрка и Яшка работают по 18–20 часов в сутки, а я тут разоряюсь насчет Ленинграда, да мне еще всё корнают и выхолащивают, как хотя бы очерк о Шостаковиче.
Была на заводе № 34, в трех цехах читала и говорила о Ленинграде, — рабочие очень хорошо слушали, этот день доставил какую-то хорошую отраду. Они написали письмо в Ленинград.
Сегодня был вечер в клубе НКВД. Читала «Февральский дневник» — очень хлопали, так что пришлось еще прочитать «Письмо на Каму», — тоже хорошо приняли. Что ж, среди них тоже, наверное, есть люди, — а в общем, какие они хамы, какими «хозяевами жизни» держатся, — просто противно. Но к этому надо относиться спокойнее. Секретарь парткома сказал на мой звонок об отце, что передал мои заявления секретарю наркома и что они «решили действовать через Кубаткина[120], т. е. через Ленинград». Ну, это для того, чтоб отделаться, — и только. А от отца с 3/IV нет известий — жив ли? Просто не знаю, как доживу эти дни в Москве, — такое чувство, что просто никогда уже не увижу Л-да, Юрки, — что-нибудь опять стрясется. Скорее бы шло время.
Попробовать, что ли, писать свои стихи? Из стихов для Ц. О.[121] о себе что-то ничего не выходит…
12/IV-42
Тоска. Машин на завтра на Ленинград — нет.
Делать мне уже абсолютно здесь нечего. День сегодня был необычайно длинен, — большею частью лежала на кровати, томилась жизнью.
Господи, о господи, будет ли мне выход? Я видела сегодня во сне смерть Ирки и Коли. Я думаю, что вот так хочу в Ленинград, а ведь там тоже нет Коли. Там пустая квартира на Троицкой, — некуда, некуда деться. Там Юрка, — но как же я лягу с ним на ту же постель, где 8 лет лежала с Колей, столько радостей и горя испытывая. Если б он еще был жив, — другое дело! А тут — еще раз похоронить его. И я знаю, что Юрка будет внутренне раздражать меня, никогда, никогда не станет он мне так близок, как Николай, хотя вчера я о нем грустила и думала с нежностью. И, может быть, еще буду жалеть о сегодняшнем своем бесцельном времяпровождении, — об этой теплой комнате, о совместных вечерах с Муськой, полных тоски и томления.
Нет, не найти мне места на земле! Но наиболее из этих мест утоляющее на сегодня — это все же Ленинград. И я хочу туда. И знаю — хотя бы первые дни с Юркой будут радостны. Тихонов тоже рвется в Ленинград. Я знаю, что влечет нас туда: там ежеминутно человек живет всей жизнью, там человеческие чувства достигают предельного напряжения, все обострено и обнажено и ясно, как может быть ясно перед лицом гибели.
Конечно, преждевременно одряхлевшая наша система в ее бюрократическом выражении дает себя знать и там, — чего стоят эти Шумиловы и Лесючевские[122], и все же это не то, что в Москве.
Вчера объявили сталинских лауреатов. Это мероприятие ничего общего не имеет с искусством. А сколько возле него возни, оскорбленных самолюбий, интриг. И за что награждают! Рядом с титанической Седьмой симфонией — раболепствующая посредственность и льстивая бездарность, и ее — больше всего. И за нее — возвеличивают, платят. Брр…
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу![123]
Только бы они догадались пожертвовать все свои деньги в фонд обороны. А то народ будет очень раздражен, — и не без справедливости. Нет, в таких условиях искусство будет только хиреть. Оно должно быть совершенно независимо. Этот «непросвещенный абсолютизм» задавит его окончательно. Эти премии — не стимул, а путь к гибели иск-ва.
Как хорошо, что я — не орденоносец, не лауреат, а сама по себе. Я имею возможность не лгать; или, вернее, лгать лишь в той мере, в какой мне навязывают это редактора и цензура, а я и на эту ложь, собственно говоря, не иду.
Лауреаты сегодня пируют, меня никто не позвал, — ну, и не надо. Зато рабочие завода № 34 принесли мне письмо для ленинградцев. Я на днях пойду в детдом, где собраны ребятки из быв. оккупированных районов. Почитаю им «Рассказ об одной звезде», поговорю. Не надо мне правительственного почета, хотя разумнее было бы напечататься в Ц. О. — также отдать в Ц. К. Еголину[124] прочитать поэму. Это «возвысит» меня как-то перед г. г. Шумиловыми и, м. б., даст возможность говорить больше, чем до сих пор.
Пожалуй, это все же надо сделать. Хотя больше всего мне хотелось бы напечатать в «Правде» то, что было бы нужно людям…
Я думаю уже о том, что я буду писать в Л-де. Напишу им, как думают и говорят о л-цах «за кольцом», — доваторцы, в госпитале, в цехах завода, м. б., в детдоме.
Живу двойственно: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием — слушая радио или читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как окна в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом, хотя бы все это было — в конечном итоге — бесполезно.
Я выгляжу хорошо. Сошли все отеки с лица, почти нет морщин, кожа — немыслимо шелковая, как никогда; широкие, белые плечи, приятная, круглая и упругая грудь… Колюшка так и не дождался, чтоб я располнела, — дурачась, он говорил мне: «Берггольц, я хочу, чтоб у тебя были большие груди!» О, как он любил меня, — все мое тело, все мое женское естество, — он ведь всерьез считал меня «самой красивой женщиной в Ленинграде».
(По радио поют «И кто его знает», — эту песню я слышала впервые в «слезе», у Маргошки[125], когда был жив Коля… О, какими счастливыми мы были тогда! Нет, нет мне жизни!)
<…>
О, как я глубоко, глубоко жалею, что не была с ним в его последние минуты! Он наверняка пришел в себя (доктор сказал — «скончался тихо»), он ждал меня, и я проводила бы его с улыбкой, счастливым, успокоенным…
Так пусть же со мной будет все дурное, что может быть!
13/IV-42
Сегодня утром — телеграмма от Юрки, от 11 /IV. Тот смертный час, что гремел над Ленинградом 4/IV, миновал его на этот раз. Слухи о 4 апреля все более страшные — говорят уже о 600 бомбах, о 4 разрушенных кварталах на Васильевском острове.
С отлетом все еще неопределенно, хотя Петрова сказала, что завтра, м. б., она что-либо определенное скажет. Звонила Тонька Гаранина, говорила что-то Муське, чтоб я «сейчас ни под каким видом не ездила в Л-д», вообще все смотрят на меня как на дуру или на героя — за возвращение в Л-д, — чудачье!
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман[126].
От отца с 3/IV нет вестей. Может быть, его уже нет в живых, — погиб в пути, как погибают тысячи ленинградцев? Ленинград настигает их за кольцом. У Алянского[127] в пути умерла жена, здесь — в Москве — сын. А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу «не знать всего» о собственном отце, — они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу! Воюю за то, чтоб стереть с лица советской земли их мерзкий, антинародный переродившийся институт. Воюю за свободу русского слова, — во сколько раз больше и лучше наработали бы мы при полном доверии к нам! Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народодействие. Воюю за то, чтоб чистый советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое искусство.