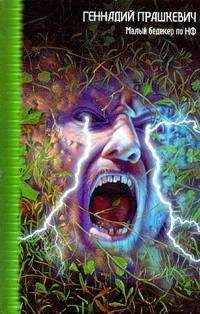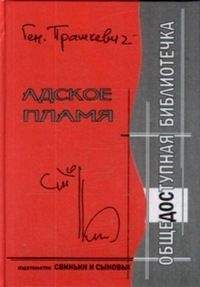Геннадий Прашкевич - Большие снега
З.И.
Ты сердишься, что «милой» посвящать
я стал стихи,
но это так и надо:
они – слова, которые когда-то
я просто не успел тебе сказать.
Во всем и всюду остров мой неистов —
в тайфуне, в ливне, в трепете куста,
и даже в том, что птицы в месяц листьев
шумят на ветках громче, чем листва.
Не умолкай невидимая птица,
на детскую свирель похож твой плач.
«Теперь ты точен.
Может получиться».
Он ничего не видит,
но он зряч.
«Переводи, – твердит. – Еще страницу! —
и желтым ногтем по столу стучит. —
Переводи! Ведь ты услышал птицу.
Теперь ты знаешь, в ком она кричит».
Шипы и розы. Из какой корысти
он выбирал?
Грехи его легки.
Мы знаем, как пылают наши листья —
летящие в огонь черновики.
Двойное эхо
(из раннего, и вне циклов)
I
Поэма начала
(фрагменты)
Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки? Кто навел на след?
Тот удар – исток всего. До остального
Милостью ее теперь мне дела нет.
Борис ПастернакТам,
в устье слов,
щетина рыжих сосен.
А грусть – весло,
гребу к началу вёсен,
потерянных в заснеженном лесу,
где деревом – ствол света на весу…
Белой тоской нас
запорошил снег.
Не закрывай глаз,
не опускай век.
Пусть этот путь крут,
крепче его держись.
В матовый скол слюд,
взвитых, как пух, высь.
Хрипло скрипит наст,
гулко кричит ночь.
Пусть из твоих глаз
слезы бегут прочь.
«Нет, никогда, нет!» —
мечется ветра крик.
Бледен фонарный свет,
и набухает тик
тут, у виска, где
бьется одна мысль:
я на чужой звезде,
это другая жизнь…
Где, как в плену кошмарном, неделями мне томиться,
где, как в бреду, попарно
проходят чужие лица.
Где не мои руки ищут твои плечи,
где через эти груды
бреда —
мои речи.
Температурный пыл
падающий и хрупкий,
регистратур пыль,
хрип телефонной трубки.
Каждое слово ловлю,
Каждое слово – месть,
«Чем занята?» – «Люблю…»
Груз,
но его несть.
Несть, припадая к земле,
царапая небо взглядом;
несть, потому что везде
имя твое рядом;
родиной преданной звать
родинок грусть немую;
несть, продолжая лгать,
несть на звезду иную, —
ту, что придумал сам,
синюю высь отринув,
веря твоим губам,
несть,
подставляя
спину…
Я кощунствовал,
я проклинал,
я смеялся,
я плакал,
я цеплялся за вал
твоих слов
и заплаты
удивительно нежных,
но прошлых,
но прожитых
слов заснеженных,
отданных ночи задешево.
И в больничном аду, между коек не застланных,
в смутном сонном бреду слов, никак не подвластных нам,
я пытался найти и забыть, но смеющийся
тот же голос крутил диском о стену трущимся.
И пытаясь молчать,
забывая себя,
я боялся терять
не миры, а тебя…
Стало далеким
вчера еще близкое,
снова – дороги,
а сосны огрызками
встали по кругу,
смеются:
«Гони!» —
в пыльную вьюгу,
в седые дожди.
Чтобы в смятенье
по вымершим станциям
прыгали тени:
останься…
останься…
Поздно!
Ни в чем оправданий не надо.
Стоит ли снова дороги мостить
если за каждой плетеной оградой —
только бы жить?…
…убегаю,
и вправду
вижу – иные летят на меня
горы,
откосы,
леса,
полустанки
и – поезда.
Сквозь глухую мглу
в небо вперяю прожектора глаз.
«Как там у вас?» —
грохочу по мосту.
Эхо в ответ:
«А у вас? А у вас?»
Дальше!
Все дальше! —
Сибирь за спиной.
Горы маячат зеленой стеной.
О, как спешу,
ухожу на пределе
в долгую мглу
трехминутных тоннелей.
С юрким грузином
под лязг бытия
жуем апельсины,
глотаем сопя.
Ничего на свете нет,
ночи, и дорога.
За окном —
тьма и свет,
смешанные строго…
Но к черту боль ненужных откровений,
я обернуться не хотел назад.
Дожди, тоска, тяжелые ступени,
и сквозь дожди —
осенний Ленинград.
С Московского такси бежит, как такса,
и мною счетчик снова пущен в рост.
Метался дождь —
измучившийся Надсон,
и я – один.
Нева.
Литейный мост.
Спокоен сон ночных кариатид —
безмолвное немое исступленье.
Окраина империи, гранит,
дождливое немое искупленье.
Не ночь, а квинтэссенция веков,
тяжелая, как зло и ревность мавра.
Лежит Нева меж плоских берегов
чешуйчатою шкурой динозавра.
Быть может, этим бредил Мандельштам
и, отрицая исступленье ночи,
пел гимны исчезающим вещам
уже за то, что время их источит.
И на Литейном, уставая ждать,
я проклинал себя под ветром грубым
за то, что я руки твои не сумел удержать,
за то, что я предал соленые нежные губы…
Знаю, где-то позади
могут люди веселиться:
дескать, что ему? – гони! —
но на это стоит злиться.
Ведь покой мной не презрен,
а летящая гроза —
не на жизнь,
но все же плен,
те же самые глаза,
где, оставив часть души,
я опять в тебя поверил
и в ночных кострах сушил
слезы прожитых поверий.
Как же ты могла уйти
в непонятный долгий вечер,
если все мои пути
приводили к этой встрече?
Ведь отчаявшись, кляня,
всем, чем можно было клясться,
ты бежала от меня,
чтобы снова возвращаться…
Как пилигрим, я шел в святых местах.
Клубился дым на выжженных кустах.
Неосторожно таял у ресниц.
Был сложен мир закатов и зарниц.
Не по стихам – по руслам древних лет,
по деревням элегией телег
тащилась боль, ее я превозмог.
Лишь исподволь смеялся темный Бог.
Я не один бывал в его плену
среди картин, распахнутых во тьму.
Но я не так играл своей судьбой:
я не был слаб наедине с тобой.
Ведь не вином нам нежность заменять.
Нам о земном блаженстве вспоминать.
Уральский пояс, дымное лицо,
и поезд – обручальное кольцо…
И все-таки, мы были, были!
И мы хотели быть и сметь!
Теряли, плакали, любили
не для того, чтобы стареть, —
а чтобы смыть слезами плесень
годами копленных обид,
что так вплеталась в ритмы песен,
в любовь и ненависть молитв;
и чтобы чувствовать последний
порыв, сминающий цветы…
Смотри,
как нежно и бесследно
под небом таем
я и ты.
II
Черным и белым
написана жизнь моя.
Черным по белому
написана жизнь моя.
Черные буквы,
бумага бела, как мел.
Иду переулками
незавершенных дел.
Будто деревья
желания вознеслись.
Если ты первый,
ты даже падаешь ввысь.
Но это снаружи —
тени как на Луне.
Был тебе нужен.
Тонул. И горел в огне.
Было добро, что
похоже больше на зло.
Не было почты.
Ломалось в пути весло.
Были пределы.
Лестницы. Глушь. Заря.
Черным и белым
написана жизнь моя.
В такую ночь финикиянин
похитил Ио. И в такую ночь
Зевес в обличье грубого быка
по волнам моря умыкал Европу.
Что остается делать мне? Не гунн,
не грек, не скиф, не египтянин,
гляжу, как, поворачиваясь плавно,
сползают звезды. Ночь нежна. Пусть завтра
мне скажут: «Ты, наверное, не спал…»
Я усмехнусь.
Мне ночь была не в тягость.
Я не похитил милую Европу
и с нежной Ио ложе не делил,
но странную испытываю радость
и чувствую прилив великих сил.
Я опоздал всего на четверть,
на четверть часа опоздал,
и солнце линиями чертит
пустой задумавшийся зал.
Смотрю на сдвинутые стулья,
обрывки выцветших газет,
и зал – как улей,
мертвый улей,
в котором даже трутней нет.
Брожу. Приглядываюсь. Медлю.
Касаюсь стульев и стены.
Не дай вам Бог
такой вот медной
непоправимой тишины.
Не улыбнулась мне удача
и вечной тайною в душе
осталась школьная задача:
из пункта А до пункта Б…
Я понимал, не стоят драки
ее решенье и финал.
Но то, что это просто знаки
я никогда не принимал.
Ведь я же видел: ветер, глина,
проселок, темные следы,
осенней дымки паутина
и облетевшие кусты.
Ведь я же знал: суть не в ответе,
ведь путники из А и Б
не просто шли к какой-то встрече,
а к очень важной– в их судьбе.
И был их путь глубок, как вечность.
К чему здесь знаки и слова?
Два путника,
и бесконечность:
из пункта Б
до пункта А…
Ночь была – спасением из клетки,
ночь была пожаром и желаньем,
ночь кострами под Луной дымилась,
ночь тянулась, радовалась, длилась,
и над нами, там, где звезды редки,
заломив ободранные ветки,
до утра береза вслух молилась.
Но потом, когда на губы – губы,
но потом, когда мы жгли и стыли,
показалось – мы уже не любим,
показалось – мы кому-то мстили.
Всю ночь сияли и цвели
кусты сиреневым огнем.
Метались листья, как шмели,
читались надписи, как днем.
И только утром, когда мрак
ополз, как оползают мхи,
ко мне явились просто так
вот эти самые стихи.
Чтоб я, на миг прикрыв глаза,
вдруг понял: не вернется вновь
та мимолётная гроза,
та мимолётная любовь.
Оле Павловой