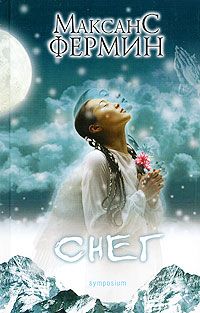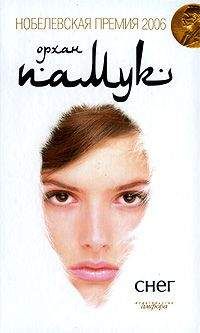Иосиф Бродский - Пейзаж с наводнением
Памяти Клиффорда Брауна
Это — не синий цвет, это — холодный цвет.
Это — цвет Атлантики в середине
февраля. И не важно, как ты одет:
все равно ты голой спиной на льдине.
Это — не просто льдина, одна из льдин,
но возраженье теплу по сути.
Она одна в океане, и ты один
на ней; и пенье трубы как паденье ртути.
Это не искренний голос впотьмах саднит,
но палец примерз к диезу, лишен перчатки;
и капля, сверкая, плывет в зенит,
чтобы взглянуть на мир с той стороны сетчатки.
Это — не просто сетчатка, это — с искрой парча,
новая нотная грамота звезд и полос.
Льдина не тает, словно пятно луча,
дрейфуя к черной кулисе, где спрятан полюс.
«Голландия есть плоская страна…»
Кейсу Верхейлу
Голландия есть плоская страна,
переходящая в конечном счете в море,
которое и есть, в конечном счете,
Голландия. Непойманные рыбы,
беседуя друг с дружкой по-голландски,
убеждены, что их свобода — смесь
гравюры с кружевом. В Голландии нельзя
подняться в горы, умереть от жажды;
еще трудней — оставить четкий след,
уехав из дому на велосипеде,
уплыв — тем более. Воспоминанья —
Голландия. И никакой плотиной
их не удержишь. В этом смысле я
живу в Голландии уже гораздо дольше,
чем волны местные, катящиеся вдаль
без адреса. Как эти строки.
Итака
Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след.
И поднимет барбос лай на весь причал
не признаться, что рад, а что одичал.
Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;
но прислуга мертва опознать твой шрам.
А одну, что тебя, говорят, ждала,
не найти нигде, ибо всем дала.
Твой пацан подрос; он и сам матрос,
и глядит на тебя, точно ты — отброс.
И язык, на котором вокруг орут,
разбирать, похоже, напрасный труд.
То ли остров не тот, то ли впрямь, залив
синевой зрачок, стал твой глаз брезглив:
от куска земли горизонт волна
не забудет, видать, набегая на.
Пейзаж с наводнением
Вполне стандартный пейзаж, улучшенный наводнением.
Видны только кроны деревьев, шпили и купола.
Хочется что-то сказать, захлебываясь, с волнением,
но из множества слов уцелело одно «была».
Так отражаются к старости в зеркале бровь и лысина,
но никакого лица, не говоря — муде.
Повсюду сплошное размытое устно-письменно,
сверху — рваное облако и ты стоишь в воде.
Скорей всего, место действия — где-то в сырой Голландии,
еще до внедренья плотины, кружев, имен де Фриз
или ван Дайк. Либо — в Азии, в тропиках, где заладили
дожди, разрыхляя почву; но ты не рис.
Ясно, что долго накапливалось — в день или в год по капле, чьи
пресные качества грезят о новых соленых га.
И впору поднять перископом ребенка на плечи,
чтоб разглядеть, как дымят вдали корабли врага.
«Она надевает чулки, и наступает осень…»
Она надевает чулки, и наступает осень;
сплошной капроновый дождь вокруг.
И чем больше асфальт вне себя от оспин,
тем юбка длинней и острей каблук.
Теперь только двум колоннам белеть в исподнем
неловко. И голый портик зарос. С любой
точки зрения, меньше одним Господним
Летом, особенно — в нем с тобой.
Теперь если слышится шорох, то — звук ухода
войск безразлично откуда, знамен трепло.
Но, видно, суставы от клавиш, что ждут бемоля,
себя отличить не в силах, треща в хряще.
И в форточку с шумом врывается воздух с моря
— оттуда, где нет ничего вообще.
Новая Англия
Хотя не имеет смысла, деревья еще растут.
Их можно увидеть в окне, но лучше издалека.
И воздух почти скандал, ибо так раздут,
что нетрудно принять боинг за мотылька.
Мы только живем не там, где родились — а так
все остальное на месте и лишено судьбы,
и если свести с ума требуется пустяк,
то начеку ольха, вязы или дубы.
Чем мускулистей корни, тем осенью больше бздо,
если ты просто лист. Если ты, впрочем, он,
можно пылать и ночью, включив гнездо,
чтоб, не будя, пересчитать ворон.
Когда-нибудь всем, что видишь, растопят печь,
сделают карандаш или, Бог даст, кровать.
Но землю, в которую тоже придется лечь,
тем более — одному, можно не целовать.
25. XII.1993
М. Б.
Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.
И чудо свершится. Зане чудеса,
к земле тяготея, хранят адреса,
настолько добраться стремясь до конца,
что даже в пустыне находят жильца.
А если ты дом покидаешь — включи
звезду на прощанье в четыре свечи
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.
Тритон
Земная поверхность есть
признак того, что жить
в космосе разрешено,
поскольку здесь можно сесть,
встать, пройтись, потушить
лампу, взглянуть в окно.
Восемь других планет
считают, что эти как раз
выводы неверны,
и мы слышим их «нет!»,
когда убивают нас
и когда мы больны.
Тем не менее я
существую, и мне,
искренне говоря,
в результате вполне
единственного бытия
дороже всего моря.
Хотя я не враг равнин,
друг ледниковых гряд,
ценитель пустынь и гор —
особенно Апеннин —
всего этого, говорят,
в космосе перебор.
Статус небесных тел
приобретаем за счет
рельефа. Но их рельеф
не плещет и не течет,
взгляду кладя предел,
его же преодолев.
Всякая жизнь под стать
ландшафту. Когда он сер,
сух, ограничен, тверд,
какой он может подать
умам и сердцам пример,
тем более — для аорт?
Когда вы стоите на
Сириусе — вокруг
бурое фантази
из щебня и валуна.
Это портит каблук
и не блестит вблизи.
У тел и у их небес
нету, как ни криви
пространство, иной среды.
«Многие жили без, —
заметил поэт, — любви,
но никто без воды».
Отсюда — мой сентимент.
И скорей, чем турист,
готовый нажать на спуск
камеры в тот момент,
когда ландшафт волнист,
во мне говорит моллюск.
Ему подпевает хор
хордовых, вторят пять
литров неголубой
крови: у мышц и пор
суши меня, как пядь,
отвоевал прибой.
Стоя на берегу
моря, морща чело,
присматриваясь к воде,
я радуюсь, что могу
разглядывать то, чего
в галактике нет нигде.
Моря состоят из волн —
странных вещей, чей вид
множественного числа,
брошенного на произвол,
был им раньше привит
всякого ремесла.
По существу, вода —
сумма своих частей,
которую каждый миг
меняет их чехарда;
и бредни ведомостей
усугубляет блик.
Определенье волны
заключено в самом
слове «волна». Оно,
отмеченное клеймом
взгляда со стороны,
им не закабалено.
В облике буквы «в»
явно дает гастроль
восьмерка — родная дочь
бесконечности, столь
свойственной синеве,
склянке чернил и проч.
Как форме, волне чужды
ромб, треугольник, куб,
всяческие углы.
В этом — прелесть воды.
В ней есть нечто от губ
с пеною вдоль скулы.
Склонностью пренебречь
смыслом, чья глубина
буквальна, морская даль
напоминает речь,
рваные письмена,
некоторым — скрижаль.
Именно потому,
узнавая в ней свой
почерк, певцы поют
рыхлую бахрому —
связки голосовой
или зрачка приют.
Заговори сама,
волна могла бы свести
слушателя своего
в одночасье с ума,
сказав ему: «я, прости,
не от мира сего».
Это, сдается мне,
было бы правдой. Сей —
удерживаем рукой;
в нем можно зайти к родне,
посмотреть Колизей,
произнести «на кой?».
Иначе с волной, чей шум,
смахивающий на «ура», —
шум, сумевший вобрать
«завтра», «сейчас», «вчера»,
идущий из царства сумм, —
не занести в тетрадь.
Там, где прошлое плюс
будущее вдвоем
бьют баклуши, творя
настоящее, вкус
диктует массам объем.
И отсюда — моря.
Скорость по кличке «свет»,
белый карлик, квазар
напоминают нерях;
то есть пожар, базар.
Материя же — эстет,
и ей лучше в морях.
Любое из них — скорей
слепок времени, чем
смесь катастрофы и
радости для ноздрей,
или — пир диадем,
где за столом — свои.
Собой превращая две
трети планеты в дно,
море — не лицедей.
Вещью на букву «в»
оно говорит: оно —
место не для людей.
Тем более если три
четверти. Для волны
суша — лишь эпизод,
а для рыбы внутри —
хуже глухой стены:
тот свет, кислород, азот.
При расшифровке «вода»,
обнажив свою суть,
даст в профиль или в анфас
«бесконечность-о-да»;
то есть, что мир отнюдь
создан не ради нас.
Не есть ли вообще тоска
по вечности и т. д.,
по ангельскому крылу —
инерция косяка,
в родной для него среде
уткнувшегося в скалу?
И не есть ли Земля
только посуда? Род
пиалы? И не есть ли мы,
пашущие поля,
танцующие фокстрот,
разновидность каймы?
Звезды кивнут: ага,
бордюр, оторочка, вязь
жизней, которых счет
зрения отродясь
от громокипящих га
моря не отвлечет.
Им виднее, как знать.
В сущности, их накал
в космосе объясним
недостатком зеркал;
это легче понять,
чем примириться с ним.
Но и моря, в свой черед,
обращены лицом
вовсе не к нам, но вверх,
ценя их, наоборот,
как выдуманной слепцом
азбуки фейерверк.
Оказываясь в западне
или же когда мы
никому не нужны,
мы видим моря вовне,
больше беря взаймы,
чем наяву должны.
В облике многих вод,
бегущих на нас, рябя,
встающих там на дыбы,
мнится свобода от
всего, от самих себя,
не говоря — судьбы.
Если вообще она
существует — и спор
об этом сильней в глуши —
она не одушевлена,
так как морской простор
шире, чем ширь души.
Сворачивая шапито,
грустно думать о том,
что бывшее, скажем, мной,
воздух хватая ртом,
превратившись в ничто,
не сделается волной.
Но ежели вы чуть-чуть
мизантроп, лиходей,
то вам, подтянув кушак,
приятно, подставив ей,
этой свободе, грудь,
сделать к ней лишний шаг.
Ответ на анкету