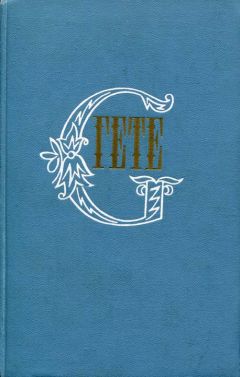Новелла Матвеева - Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи
Быть может, мне и вообще не стоило бы подымать эту историю из недр забвения, кабы не одно весьма немаловажное обстоятельство.
Я уже говорила, что Цеткин считалась у меня «куклой» лишь на худой конец и лишь по сравнению с Люксембург (не удостоившейся в глазах дерзкой девчонки даже и этой «чести»!). Однако же именно у Люксембург, у этой строгой и в высшей степени непонятной взрослой, было — перед Кларой — одно особенное преимущество…
В поэме «Ключи от клуба» (ударившей мне в голову, разумеется, через много лет после всего, здесь обсказанного) я усиливалась набросать портрет моей старшей сестры Лианы. Имя это было ей дано родителями при её рождении. Но… — так как я никогда не была должным образом по-дамски любопытна и через то безжалостно разграбила весь (возможный) свой будущий историзм, то теперь не знаю, что побудило отца переименовать Лиану (уже, было, прочно этим именем завладевшую!) в Розу. Какое политическое событие было тому причиной? Но даже уже тогда, когда играла в портреты, я совершенно точно знала: Зязю переименовали в честь Розы Люксембург. И это побуждало меня порою чуть пристальнее, чем в другие снимки, вглядываться в лицо женщины, так мало похожей на куклу.
Думаю теперь, что мама не вдруг-то должна была согласиться с переименованием дочери. Не потому ли за сестрой наряду со вторым было закреплено и первое её имя? Получилось по западноевропейским образцам: Роза-Лиана! И оставалось так до тех пор, пока первое имя (ставшее вторым) не отлетело от неё как-то само собой, точно ступень от ракеты, и тогда сестра сделалась просто Розой. Но мне-то продолжало нравиться прежнее её имя:
…беспокойная, как в джунглях обезьяна,
Изобретательна моя сестра Лиана!
И я пользовалась каждым удобным случаем, чтобы напомнить знакомым либо сообщить незнакомым, что сестру мою вообще-то Розой-Лианой звать!
Однажды двое взрослых (даже не помню: дядя с тётей или две тёти), узнав, как меня зовут и наверное удивившись, до того ль разохотились на «удивительное рядом», что, с заметно жадной надеждой, тут же осведомились, а нет ли у меня в таком случае сестры? Ах, есть?! Как же её звать?
— Роза-Лиана, — с гордостью отвечала я.
Гордость, конечно, была наивная, а другой у меня быть не могло. Однако —
Назвать ли вам троих, особенно бесславных?
Судья неправедный, — бич и гроза бесправных.
Поэт, который нас минимализму учит.
И врач, с больным своим связавшийся на равных.
И… взрослый, связавшийся на равных с ребёнком, — добавила бы я теперь, когда мне вспомнилось, как дальше повели себя эти взрослые… Едва заслышав имя моей сестры, они… то ли бесшумно прыснули, то ли беззвучно фыркнули, то ли они попросту дружно-обрадованно подавились находкой, — трудно сказать, но факт остаётся фактом; они как-то вдруг сразу саркастически изнемогли от прихлынувшей ядовитой иронии и всякого другого подступившего, едко захлестнувшего их мухоморства. Нескрываемо-скрываемый смех из цикла «Ой, держите меня! Ой, не могу!», но вместе с тем всё ж малость насильственный («Ты смеёшься, а тебе невесело; / Сердце сжала чёрная тоска») так разбирал их, словно в «Розе-Лиане» им послышалось что-то вроде «Марии-Терезии»… А это на их подозрительный мухоморский взгляд было непростительной дерзостью (со стороны нашей семьи) и превышением чего-то.
Словом, двое взрослых нашли возможным не просто подтрунить надо мной (я, кстати, уже отлично различала виды смеха), но зло высмеять человека, едва видного от земли! Который всего лишь ответил на их же вопросы и к тому же сказал им чистую правду.
Вот это-то я и называю в великовозрастных (неумеренных!) весельчаках переразвитым чувством комического.
У меня и в помыслах не было их как-то обидеть. Я думала — они порадуются вместе со мной, что сестру мою зовут так красиво! Но они восприняли её имя как личное оскорбление. Почему? Зависть близко была расположена? (Как бывают «слёзы близко» у некоторых людей, вроде меня — тогдашней?) Впрочем, стремиться постигнуть тайну иных сердец это всё равно, что (как говаривал сводный мой брат Виктор Николаевич) «забивать сваи золотыми часами». И, наверное, это хорошо (ибо этак было безопасней для нас), что со временем из пышных лепестков Розы-Лианы сестра высвободилась в качестве просто Розы (если просто Розы бывают!), а затем уже — Розы Николаевны. Это как-то больше соответствовало и нашему общему скромному житью-бытью, и нашим невзрачным заработкам, и не блестящим, невыдающимся бытовым условиям. Но…
Но оттого и свист,
Но оттого и гром
И чуть ни выстрелы нам вслед на самом деле,
Что тихо-тихо здесь мы проскользнуть хотели
И эха не будить, встающего кругом…
Имелся у нас в семье небольшой альбом в зернисто-чёрном прочном переплёте, уже и тогда старый, потрёпанный, — и весь он внутри испещрён был ещё юным, полугимназическим почерком матери. Уверена, то был её молодой дневник, но увы! мне не довелось прочитать его. И теперь о его содержании я никогда ничего не узнаю!
В середину одной из его крупно-кудрявыми буквами затканных страниц была вклеена фотография девочки, ещё такой маленькой, что даже ножки-бубликом; конечно, ещё только ползать училась! а теперь сидела в подушках. И глядела на вас большими, широчайше раскрытыми, очень светлыми глазами с выражением… какого я никогда больше у таких маленьких детей не видывала! В глазах ребёнка была как бы убедительная просьба; не обижать его, если можно, и простить ему его маленькие недостатки! Вместе с тем вопрошающие и просящие глаза эти, светлые, как сам свет, были на удивление приветливы и добры. Ко всем! Ко всем другим людям, — кто бы ни заглянул в них, намеренно или ненароком.
Теперь, глазами памяти из далека времени, я вижу этот снимок по-иному, чем видела в детстве. Ведь тогда мою глупость, падкую на яркость и на узоры, занимала не столько девочка на изображении, сколько исполинская пёстрая бабочка (то ли вышитая, то ли нарисованная) на её фартуке! Бабочка с большеглазыми крыльями распространялась почти во всю ширь фартука большеглазой девочки, и глаза крыльев отвлекали от глаз лица. Между тем хозяйкой фартука, глазастой девочкой (открытость и доброта которой, видные на том снимке, кажутся мне теперь непомерными и опасными для тех, кто обзаведётся подобными) как раз и являлась моя старшая сестра — Роза-Лиана.
Сведения о её младенчестве, как всякая внутрисемейная история, должны были, конечно, представляться нам всем навсегда нерушимыми, и никто не мог даже вообразить себе, что они когда-нибудь пропадут, как пропала та тетрадь в альбомно-твёрдом переплёте. А ведь очень может быть, что многие домашние анекдоты, связанные с временем первого роста сестры, её особенные тогдашние словечки, замашки и выходки были записаны мамой как раз в ту тетрадь. Недаром же и портрет маленькой Лианы был вклеен туда же!
«Рукописи не горят»? Ах, вот как? Это в воде они не горят, думаю я. А в огне, соответственно, не тонут. Но ведь вообще-то мне и самой не раз доводилось наблюдать: до чего же безотказно загорается, чернеет и скручивается любая бумага! (А которая не горит, так на той ничего и записать невозможно…)
Иное дело — плохие рукописи. Вот эти действительно в огне не горят и в воде не тонут! И это так же верно, как то, что абсолютно ничего не делается и полномочным их кровным родичам; плохие статуи не разбиваются, плохие картины не вспарываются, плохие (поддельные) самоцветы — не разворовываются… (Я, во всяком случае, не слыхала, чтобы кто-нибудь выкрал бы из иконостаса фальшивые самоцветы специально для того, чтобы глухой полночью, тайком, крадучись… — подло подменить их настоящими!)
Но всё это, конечно, лишь к слову сказать. Ведь канувшая тетрадь навряд ли могла представлять для других такую же ценность, какую имела она для нашей семьи. Хотя, впрочем, у моей матери смолоду был до такой степени сжатый и замечательно-находчивый слог, что лица, прихватившие тетрадь, давно и наверняка поднялись уже с её помощью на целую ступень своего умственного развития! Отрешась от низменного мычания, они, думается, давно уже возвысились аж до детского лепета моей сестры (времён фартучка с бабочкой), записанного рукой моей матери. Её слогом!
(Ах, как зло! Как злы вообще всегда эти обкраденные! И насколько же добрее — эти милашки-воры!)
В прорве ночной
В черном окне
Вещи, скользнув, исчезали, —
Гасли на дне
Ночи и дали.
А выпархивали
Уже в той епархии они,
где люди живы,
где книги целы,
где нет печали.
Задолго до того, как фамилия обзавелась мною, в истории семьи имела место изба в каком-то (по моим представлениям, ото всего далёком) колхозе. Избу эту временно снимали родители. Хозяйка-молочница, как ни странно, всё ещё как-то связанная со своей коровой (видимо, ещё не всё было охвачено коллективизацией!), однажды куда-то отвлеклась от своего хозяйства. Отсутствовали в тот миг и Николай Николаевич с Надеждой Тимофеевной, так что при больших молочных бидонах, среди яркой скуки зноя, осталась, как на часах, одна только маленькая Лиана.