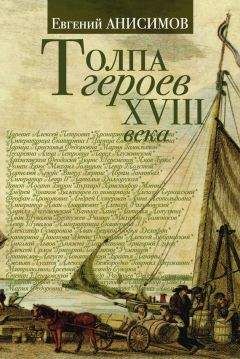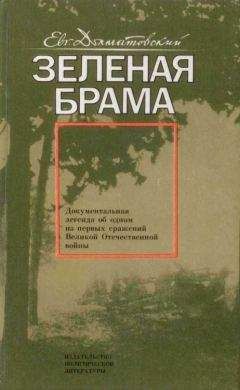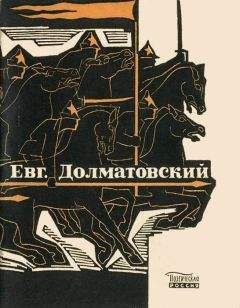Евгений Долматовский - Добровольцы
Глава двадцать пятая
В ИЮНЕ, НА РАССВЕТЕ
Брюссель безжалостно разграблен,
Придушен древний Амстердам,
С петлей на шее Копенгаген,
И Прага — боевой плацдарм…
Как было б тихо все и мило,
Когда б не эти времена!
Скучает под Берлином вилла,
Там Грета бедная одна.
А муж, любивший жар каминный,
Картишки, тихий разговор?
О боже мой! Он ставит мины!
Подумать страшно: он сапер.
На Гуго каска с эдельвейсом,
На пряжке, надпись: «С нами бог».
Берлин сквозным проехав рейсом.
Домой он забежать не смог.
Его в Париже звали «бошем»,
Но там он очень славно жил,
А вот сегодня переброшен
Вдруг на восток, в унылый тыл.
Зачем? Солдат обязан строго
Секретный выполнить приказ.
Но вот знакомая дорога,
По ней он едет в третий раз.
(В Москву он ехал и обратно
Когда-то мимо этих нив.)
На летний мир смотреть приятно,
Глаза ладонью заслонив.
И лишь когда на берег Буга
Июньской ночью вышел взвод,
Догадка осенила Гуго
И вызвала холодный пот:
«А как же договор с Россией?
Ведь это ж подлость и обман!»
А вот тебя и не спросили!
Над Бугом ежился туман,
Мерцали огоньки в долине —
Так близко, хоть подать рукой.
Пел соловей на Украине,
Из Польши отвечал другой.
И вдруг ракета в небе сонном,
Снаряда первого полет.
И Гуго со своим понтоном
К чужому берегу плывет,
Где пограничники в секрете,
Вступив с врагом в неравный бой,
Костьми полягут на рассвете,
Отчизну заслонив собой.
И на душе у Гуго пусто, —
Коль у него была душа, —
Застыли мысли, сжались чувства.
И он плывет, плывет, спеша
В края, где он бывал когда-то
Как друг. Но он ходил тогда
Не в тесном кителе солдата,
А в робе, сшитой для труда.
Забудь! Забудь! Ты часть машины,
Дерзнувшей растоптать весь мир.
Как схож шинели цвет мышиный
С окраской танков и мортир!
Грузовиков тупые морды,
Кривые лица егерей…
Рванулись в наступленье орды
Читавших Ницше дикарей.
Ревут моторы на пределе.
Итак, недели через две,
А может, и через неделю,
Придется побывать в Москве.
…Москва! И молодой и старый,
Мой город ненаглядный спит.
Молчат застывшие бульвары,
Зеленые, как малахит.
Волшебна эта ночь в июне,
Кратчайшая из всех ночей.
Как тихо… Ветерок не дунет,
Не потревожит москвичей.
Мир предрассветный чист и хрупок,
И озаряет темноту
Лишь буква «М» из красных трубок,
Вход в Молодость или в Мечту.
Там, под землей, в сыром туннеле,
Грохочет полуночный труд.
Кайтановы о важном деле
На рельсах разговор ведут.
Им предстоит в июле отпуск —
Шахтком вручил путевки в Крым.
«Позволь, отец, а как же отпрыск?»
«Пусть бабушка побудет с ним».
Нет! Без него не может Леля
Пробыть и дня. Он так болел!
«Возьмем его с собою, что ли?
Подправить парня врач велел».
Идет бетон тяжелым валом
В тот предрассветный час, когда
Рванулась по карельским скалам
И по карпатским перевалам
Вослед за орудийным шквалом
На нашу родину беда.
…Заря несмело замерцала
На самом верхнем этаже.
Я отложил перо устало,
Пора бы и прилечь уже.
Взглянул в окно. Бульвар и площадь
Слегка увлажнены росой.
И солнца первый луч на ощупь
Скользит по линии косой.
И сквозь сиреневую дымку,
Сквозь тополиный теплый снег
С несмелой девушкой в обнимку
Идет военный человек.
Да это ж Слава, право слово!
Он не один! Вот это ново!
Кто эта девушка? Не знаю,
Но вижу, как она, горда
Тем, что влюбилась навсегда.
Ее рука, почти сквозная,
Еще не ведала труда.
Она — другое поколенье,
Что подросло за нашим вслед.
Но Слава ищет повторенья
Неповторимых юных лет.
И иногда бывает страшен
Его печальный долгий взгляд:
Вдруг назовет не Таней — Машей.
И вспыхнет, словно виноват,
И повторяет: «Таня, Таня…»
И снова счастлива она.
А ты готова к испытанью?
А ты готова к расставанью?
Сегодня началась война.
Глава двадцать шестая
ТАНЯ
На мирной жизни белые кресты —
Полосками заклеенные окна;
Столица не лишилась красоты,
Но посуровела, чуть-чуть поблекла.
Любимая с морщинками у глаз
Порой нам прежней юности дороже.
У Лели выдался свободный час,
А дома Славик снова неухожен.
Она пришла и, не жалея рук,
Помыла пол, бельишко постирала.
Тут в дверь раздался осторожный стук.
Гостей сейчас как раз недоставало!
В спортивной курточке, лицом светла,
Тревожно теребя косички хвостик,
Застенчивая девушка вошла.
Впервые вижу! Это что за гостья?
«Я Таня. Мне рассказывал о вас
Уфимцев Слава… Вы уж извините…
Я к вам пришла узнать, где он сейчас…
Он потерялся в первый день событий…»
«Давно ли, Таня, вы знакомы с ним?»
«Мы повстречались в мирный день последний».
«А почему он вам необходим?..
Зайдите! Что же мы стоим в передней?»
И девушка пристроилась бочком
На валике дивана неуклюжем
И снова стала говорить о том,
Как ей хотя бы адрес Славы нужен.
И, веря в возникающую связь
С девчонкой этой, Леля ей призналась:
«Он улетел и с нами не простясь,
А впрочем, это с ним уже случалось…
Вот мой сынок. Остались мы вдвоем —
Муж с третьего июля в ополченье.
Давайте, девушка, чайку попьем.
У нас, выходит, общее мученье».
И Таня, всё не поднимая глаз,
Минут за сорок Леле рассказала,
Не оставляя правды про запас,
Своей любви волшебное начало:
«У нас был в школе вечер выпускной.
Мы пригласили летчика-героя.
Со всеми пел он, танцевал со мной,
А после, предрассветною порою,
Пошел он провожать меня домой,
Хоть я живу с десятилеткой рядом.
Мы двинулись дорогой не прямой —
Бульварами, потом Нескучным садом.
И я позволила себя обнять.
И он сказал: „Весна пришла опять…“»
«Так, что, не пишет?»
«Нету ни строки!»
«Вы не волнуйтесь, мой не пишет тоже.
Они у нас немного чудаки
И друг на друга до чего похожи!»
И Тане стало страшно, что она,
Стремительно заняв чужое место,
Здесь принята как Славина жена,
Хотя не называлась и невестой.
А вот и Лели очередь пришла,
Ей так хотелось рассказать о муже.
«Его я задержать в тылу могла,
Поскольку он на шахте очень нужен.
Нам, метростроевцам, дана броня,
А я его начальник по работе.
Спросили, как положено, меня.
Что мне ответить? Вы меня поймете.
„Пускай идет на фронт“, — сказала я,
А после ночь белугой проревела.
Тут все едино — шахта и семья.
Протестовало сердце — и велело».
«Я знаю, знаю, что такое долг.
Мне прививал понятие о чести
Мой папа. Он под Минском принял полк,
Три дня сражался и пропал без вести.
Глазами я похожа на отца,
Так все считают, но не в этом дело.
Я, сохранив черты его лица,
Характер бы его иметь хотела!
Я тоже скоро в армию пойду,
Мне через месяц будет восемнадцать.
На фронте я Уфимцева найду…
Не надо, Леля, надо мной смеяться!»
«Не обижайтесь, девочка! Смеюсь
По-дружески. У нас такое было.
Я вспомнила, чтобы развеять грусть,
Как на себе Кайтанова женила.
Ой, сын услышит! Расскажу потом:
При нем теперь нельзя сказать ни слова…»
Осенний сумрак, затемняя дом,
Неспешно сделал комнату лиловой.
И вдруг прожектор в облаках пророс.
Знакомый голос сдержанно и строго
В картонном черном диске произнес:
«Граждане, воздушная тревога!»
Они идут, стараясь не бежать,
Почти несут примолкшего мальчишку,
Сейчас, пожалуй, Леля — только мать…
А Таня, взяв хозяйский плед под мышку,
Идет и удивляется сама,
Что ворвалась так просто в жизнь чужую.
Вокруг пальба. Качаются дома.
«Но не страшны мне эти свет и тьма,
Когда за ручку Славика держу я!»
Летят навстречу улицы Москвы,
Родные переулки и бульвары,
Как повзрослели, изменились вы,
Встречая грудью первые удары!
Вот баррикада, в сумраке черна.
Но это не Парижская коммуна,
Не Пятый год, а наши времена,
Колючей нашей юности трибуна.
И наконец, метро. Они бегут
По переходам мраморным в туннели.
Не сосчитать детей и женщин тут.
Нашлось для Славки место еле-еле.
Укутан пледом, быстро он уснул
На раскладушке плотницкой работы.
Сюда не долетал ни гром, ни гул, —
Отогнаны, быть может, самолеты.
А Леля с Таней, став к плечу плечо,
Задумавшись о Коле и о Славе,
Вздыхали и дышали горячо
В большом и тесном человечьем сплаве.
Передают, что до пяти утра
Сегодня бесполезно ждать отбоя.
Сказала Леля: «Мне идти пора,
А мальчика оставлю я с тобою.
Держи ключи! В квартире, за окном,
Найдешь кастрюлю с соевою кашей».
Поймала Леля вдруг себя на том,
Что с Таней говорит, как будто с Машей.
Тревога продолжалась. Мальчик спал
Под Таниной надежною охраной.
Туннелем, по ступенькам черных шпал,
Шла Леля. Ей на шахту нужно рано.
Шла Леля, узнавая те места,
Где нам открылась жизни красота:
Здесь Николая встретила она,
Тут мы сдержали натиск плывуна.
И сбойка первая была вот тут,
Где женщины конца тревоги ждут.
А над столицей, над ее судьбой
В скрещении мечей голубоватых
Крутился и пылал воздушный бой
Предвестием победы и расплаты.
Но в том бою, как я узнал потом,
Майор Уфимцев за турелью не был.
Ни в тучах над Москвой, ни на другом
Расчерченном в штабах квадрате неба.
Глава двадцать седьмая