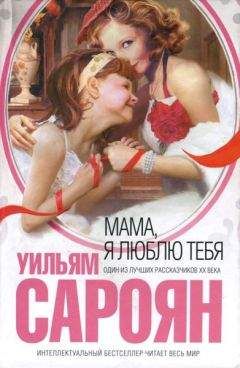Юрий Кузнецов - Стихотворения и поэмы
1991
ЖИВОЙ ГОЛОС
Говори! Я ни в чём не согласен,
Я чужак в твоей женской судьбе.
Только голос твой чист и прекрасен,
Он мне нравится сам по себе.
Нахваталась ты слов, нахваталась,
Все твои измышления — ложь.
Только в голосе жизнь и осталась,
Вызывая ответную дрожь.
Говори! Я с тобой, словно в чаще,
И твой голос могу осязать:
Шелестящий, звенящий, журчащий...
Но такое нельзя рассказать.
Он звенит, он летит, он играет,
Как малиновка в райском саду.
Даже платье твоё подпевает,
Мелодично шумит на ходу.
Даже волосы! Каждый твой волос
От дыханья звенит моего.
Я хотел бы услышать твой голос
Перед гибелью света сего.
1991
ФЕДОРА
На площадях, на минном русском поле,
В простом платочке, с голосом навзрыд,
На лобном месте, на родной мозоли
Федора-дура встала и стоит.
У бездны, у разбитого корыта,
На перекате, где вода не спит,
На черепках, на полюсах магнита
Федора-дура встала и стоит.
На поплавке, на льдине, на панели,
На кладбище, где сон-трава грустит,
На клавише, на соловьиной трели
Федора-дура встала и стоит.
В пустой воронке вихря, в райской куще,
Среди трёх сосен, где талант зарыт,
На лунных бликах, на воде бегущей
Федора-дура встала и стоит.
На лезвии ножа, на гололеде,
На точке i, откуда чёрт свистит,
На равенстве, на брани, на свободе
Федора-дура встала и стоит.
На граблях, на ковре-пансамолете,
На колокольне, где набат гремит,
На истине, на кочке, на болоте
Федора-дура встала и стоит.
На опечатке, на открытой ране,
На камне веры, где орёл сидит,
На рельсах, на трибуне, на вулкане
Федора-дура встала и стоит.
Меж двух огней Верховного Совета,
На крыше мира, где туман сквозит,
В лучах прожекторов, нигде и где-то
Федора-дура встала и стоит.
1993
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
Он возвращался с собственных поминок
В туман и снег, без шапки и пальто,
И бормотал: — Повсюду глум и рынок.
Я проиграл со смертью поединок.
Да, я ничто, но русское ничто.
Глухие услыхали человека,
Слепые увидали человека,
Бредущего без шапки и пальто;
Немые закричали: — Эй, калека!
А что такое русское ничто?
— Всё продано, — он бормотал с презреньем, —
Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем —
Вот что такое русское ничто.
Глухие человека не слыхали,
Слепые человека не видали,
Немые человека замолчали,
Зато все остальные закричали:
— Так что ж ты медлишь, русское ничто?!
1994
КОСЫНКА
Весна ревнует русскую глубинку.
Люби и помни, родина моя,
Как повязала синюю косынку
И засмеялась девочка твоя.
Всё лето грезит знойная глубинка
Живой водой и мёртвою водой.
И выгорает синяя косынка
На голове у девки молодой.
Туманит осень серую глубинку,
И с головы у женщины седой
Срывает ветер смертную косынку,
Косым углом проносит над водой.
Забило снегом бедную глубинку,
И унесло за тридевять морей
Косым углом летящую косынку —
Седой косяк последних журавлей.
Опять весна — и в русскую глубинку
Весёлый ветер гонит журавлей.
И надевает синюю косынку
Та девочка, которой нет живей.
1997
КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИРА
Жизнь улеглась... Чего мне ждать?
Конца надежде или миру?
В другие руки передать
Пора классическую лиру.
Увы! Куда ни погляжу —
Очарованье и тревога.
Я никого не нахожу;
А кто и есть, то не от Бога.
И все достойны забытья.
Какое призрачное племя!
Им по плечу мешок нытья,
Но не под силу даже время.
Когда уйдёт последний друг
И в сердце перемрут подруги,
Я очерчу незримый круг
И лиру заключу в том круге.
Пусть к ней протянут сотни рук
Иного времени кумиры,
Они не переступят круг
И не дотронутся до лиры.
Пусть минет век, другой пройдёт,
Пусть всё обрыднет в этом мире, —
Круг переступит только тот,
Кому дано играть на лире.
Я буду терпеливо ждать,
Но если не дождусь поэта,
И лира станет умирать, —
Я прикажу ей с того света:
— Окружена глухой толпой
Среди загаженного мира,
Играй, играй сама собой,
Рыдай, классическая лира!
Небесной дрожью прежних дней
Она мой прах в земле разбудит,
Я зарыдаю вместе с ней...
Пусть лучше этого не будет!
1997
ОТПУЩЕНИЕ
Мы все бессмертны до поры.
Но вот звонок: пора настала.
И я по голосу сестры
Узнал, что матери не стало.
В безвестье смертного конца
Её планида изломилась.
Ушла кровинушка с лица,
Оно мгновенно изменилось.
Я знал прекрасных матерей,
Но мать моя была прекрасней.
Я знал несчастных матерей,
Но мать моя была несчастней.
Еще в семнадцатом году,
В её младенческие лета,
Ей нагадали на звезду,
Ей предрекли родить поэта.
Ни доли нет, ни смерти нет,
Остался тёмный промежуток.
Горел закат двух тысяч лет
И выжигал её рассудок.
Она жила среди теней
И никого не узнавала.
"Пустите к матушке моей!" -
Так ненароком и сказала.
Бездомный прах сестра везла.
Была дороженька уныла
В тот город, где уже звала
Странноприимная могила.
О, город детства моего!
О, трепет юности печальной!
Прошла, как искра, сквозь него
Слеза любви первоначальной.
Давно мой дух не залетал
Туда, в забытые пенаты...
На курьих ножках гроб стоял
Под зимним небом, возле хаты.
Да слух ловил средь бела дня
Сребристый звон святой церквушки.
Вздыхала дальняя родня,
Крестились старые старушки.
Я подошёл, печаль тая.
Взглянул и вздрогнул, как от грома.
В гробу лежала мать моя,
Лицо мне было незнакомо.
О том не надо вспоминать,
Но что-то в сердце изломилось:
- Не узнаю родную мать.
Её лицо так изменилось!
- И мы её не узнаём, -
Сказали старые старушки:
- И мы, и мы не узнаём,
Её заветные подружки.
Повесив голову на грудь,
Я ощутил свой крест нательный.
Пора держать последний путь
На крест могильный, сопредельный.
На помощь волю я призвал,
Над прахом матери склонился.
- Прости! - и в лоб поцеловал...
И гроб в могилу опустился.
И вопросил я на краю,
В могильный зев бросая шапку:
- Она узнает мать свою?
Она узнает нашу бабку?
Сестра не слышала меня
Сквозь поминальный звон церквушки.
Молчала дальняя родня
И все заветные старушки.
Зияла огненная высь,
Вбирая холод подземельный.
Сошлись и снова разошлись
Могильный крест и крест нательный…
Сестра! Мы стали уставать,
Давно нам снятся сны другие.
И страшно нам не узнавать
Воспоминанья дорогие.
Зачем мы тащимся-бредем
В тысячелетие другое?
Мы там родного не найдем.
Там всё не то, там все чужое...
1997