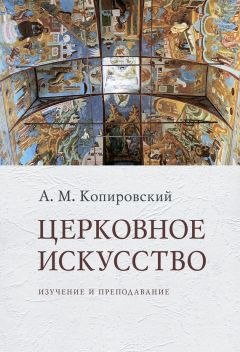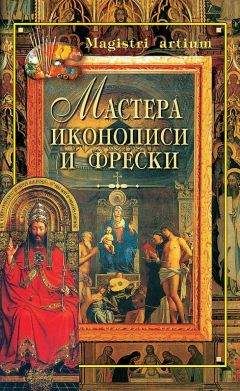Вольтер - Орлеанская девственница. Философские повести (сборник)
Песнь девятая
СодержаниеКак Ла Тримуйль и д’Арондель нашли своих любовниц в Провансе и о странном случае, происшедшем на Благоуханной горе.
Два рыцаря отважных, после боя,
Будь то на шпагах или же верхом,
С мечом в руке или стальным копьем,
В доспехах или голые, – героя
Охотно признают один в другом
И воздают хвалу с сердечным жаром
Бесстрашию врага, его ударам,
В особенности, если гнев утих.
Но если, после поединка, их
Прискорбная случайность посещает
И общая невзгода у двоих,
Тогда несчастье их объединяет.
Печальная судьба – их дружбы мать –
Толкает братьями героев стать.
Так и случилось здесь: таким союзом
Себя связали хмурый бритт с французом.
Природа д’Аронделя создала
С душой, не знающей добра и зла.
Но даже это грубое созданье
К Тримуйлю ощутило состраданье;
А тот, внезапной дружбой увлечен,
Осуществлял природное стремленье:
Имел чувствительное сердце он.
«Какое, – он промолвил, – утешенье
Вниманьем вашим мне даете вы!
Я Доротею потерял, увы!
Но отыскать ее следы, быть может,
Освободить ее, вернуть назад
Мне ваша мощная рука поможет.
Меня ж опасности не устрашат,
Чтоб вам добыть Юдифь, мой милый брат».
Два новых друга, движимые страстью,
Отправились на поиски. К несчастью,
Им на Ливорно указали путь.
Грабитель же намерен был свернуть
Как раз долиной противоположной.
Пока неслись они дорогой ложной,
Успел он без препятствий и легко
Увлечь свою добычу далеко.
Уводит пленниц он, немых от горя,
В пустынный замок свой на берег моря,
Меж Римом и Гаэтой, мрачный склеп,
Ужасный, отвратительный вертеп,
Где алчность и бесстыдное упорство,
Нечистоплотность, хитрость и обжорство,
Заносчивость хмельная, им под стать,
Кровавых распрей и насилий мать,
Неудержимость гнусного разгула,
В котором нежность и любовь уснула,
Все, все соединилось, чтобы дать
Образчик верный нравов человека,
Который не стеснен ни в чем от века.
О чудное подобие творца,
Так, значит, вот ты каково с лица!
Достигнув замка своего, мерзавец
За стол садится между двух красавиц.
Не соблюдая правил никаких,
Ест, обжирается и пьет за них,
И говорит им: «Да, скажите, кстати,
Кто будет эту ночь со мной в кровати?
Все безразлично, все годится мне:
Худа, толста, испанка, англичанка,
Магометанка или христианка.
Не все ль равно, ведь дело-то в вине!»
Услышав эти речи, вся краснея,
Рыданий не сдержала Доротея,
И бурно облака ее очей
Льют слезы на точеный носик ей,
На подбородок с ямкой небольшою,
Что сам Амур ваял своей рукою;
Ей скорбь и гибель чудятся кругом,
Британка же задумалась, потом
На дерзостного вора поглядела
И усмехнулась сдержанно и смело:
«Признаюсь, я была б совсем не прочь
Добычей вашей стать на эту ночь,
На что способна, доказав на деле,
Дочь Англии с разбойником в постели».
На эту речь достойный Мартингер
Сказал, уж будучи немного пьяным:
«В делах любви – британки всем пример», –
И снова пьет стакан он за стаканом,
Ее целует, ест и снова пьет,
Ругается, смеется и поет.
Рукою дерзкой – я сказать чуть смею –
Он треплет то Юдифь, то Доротею.
Та плачет; эта, виду не подав,
Не покраснев, ни слова не сказав,
Все позволяет грубому созданью.
Но наконец окончен пир, и вот,
Пошатываясь и с невнятной бранью,
Разбойник наш из-за стола встает,
Горя глазами, к выходу идет
И, Бахусу воздав даров без меры,
Готовится на празднество Венеры.
Британке Доротея, вся в слезах,
Тогда испуганно сказала: «Ах,
Ужель разделите вы с вором ложе?
Ужель разбойник заслужил, о боже,
Чтоб наслажденье дали вы ему?»
«Нет, я готовлюсь вовсе не к тому, –
Утешила подруга Доротею. –
Я постоять за честь свою сумею:
Я рыцарю любимому верна.
Бог наградил, как знаете вы сами,
Меня двумя могучими руками;
Недаром я Юдифью названа.
Умерьте же напрасную тревогу,
Побудьте здесь и помолитесь Богу».
Она идет, окончив эту речь,
В постель хозяина спокойно лечь.
Уж темной молчаливой ночи дрема
Покрыла стены проклятого дома.
Разбойники, толпою, охмелев,
Ушли проспаться, кто в сарай, кто в хлев,
И в этот миг, дышать почти не смея,
Совсем одна осталась Доротея.
Был Мартингер необычайно пьян.
Не говоря, не поднимая взгляда,
Расслабленный парами винограда,
Усталою рукой он обнял стан
Красавицы. Но все же, без сомненья,
Он жаждал сна сильней, чем наслажденья.
Юдифь, в коварной нежности своей,
Его заманивает в глубь сетей,
Что малодушным гибель расставляет,
И вскоре обессиленный злодей
Зевает тяжело и засыпает.
У Мартингера был над головой
Повешен, по привычке, меч стальной.
Британка тотчас же его хватает,
Аода, Иаиль припоминает,
Юдифь, Дебору, Симона-Петра{176},
От чьей руки ушам не ждать добра{177}
И подвиг чей затмится все же ею.
Затем, спокойно наклонясь к злодею,
Приподнимает медленно она
Тяжелую, как камень, от вина
Хмельную голову. Нащупав шею,
Она с размаху опускает меч
И сносит голову с широких плеч.
Вином и кровью залиты простыни;
У нашей благородной героини
На лбу, как и на теле, места нет,
Где не виднелся бы кровавый след.
Тут прыгает с кровати амазонка
И убегает с головой в руках
К своей подруге, для которой страх
Был нестерпимее, чем для ребенка;
И, плача, Доротея говорит:
«О, господи! Какой ужасный вид!
Какой поступок и какая смелость!
Бежим, бежим! Займется скоро свет,
И опасаюсь я за нашу целость!»
«Прошу вас, тише, – Розамор в ответ, –
Еще не все окончено, не скрою,
Ободритесь и следуйте за мною».
Но бодрости у Доротеи нет.
А их любовники далеко были,
Искали их и все не находили.
Уже и в Геную они пришли
И собираются пуститься в море
И ждать вестей хоть на морском просторе
О тех, чей милый след исчез с земли,
Их в нестерпимое повергнув горе.
Уносят волны их то к берегам,
Где, христиан усердных ободряя,
Отец святейший наш, на страх врагам,
Смиренно бережет ключи от рая,
То ко дворцам Венеции златой,
Где правит муж Тефии{178} – дож седой{179},
Или к Неаполю, к долинам лилий,
Где рядом с Саннадзаром спит Вергилий{180}.
Несут их боги резвые ветров
По темно-голубым хребтам валов
К столь знаменитой в древности пучине,
Где обитала прежде смерть, а ныне
Невозмутимо ровных волн покой
Не помнит больше о Харибде злой{181}
И где не слышен больше рев унылый
Псов, помыкаемых жестокой Сциллой,
Где, не кичась уже былою силой,
Под Этною гиганты мирно спят{182}:
Так землю изменил столетний ряд!
Они проходят через Сиракузы,
Приветствуют источник Аретузы{183},
Чьим тростниковым зарослям давно
Уж милых вод увидеть не дано{184}.
И море вновь, и вновь видений смена:
Край Августина{185}, берег Карфагена,{186}
Безмерно пышный прежде, а теперь
Обитель зла, где мусульманин-зверь
Объят пороком, жадностью и тьмою.
И наконец, водимые судьбою,
Причаливают к Франции они.
Там, утопая в сладостной тени,
Стоят Марселя древние строенья,
Подарок вымершего поколенья{187}.
О гордый град, где жил свободный грек,
Ты прошлого не возвратишь вовек.
Но быть под властию французских лилий,
Как знают все, прекраснее стократ.
К тому ж, твои окрестности укрыли
Еще чудесней и целебней клад.
Мария-Магдалина, по преданьям,
Служа Амуру в юности своей,
Потом исправилась и с содроганьем
Оплакивала жизнь минувших дней.
Ей сделалась постылой Палестина,
Она ушла во Францию и там
В ущелии, на скалах Максимина{188}
Жестоко бичевалась по ночам.
И с той поры весь воздух там, по слухам,
Наполнен чудным и волшебным духом.
К священным тем камням спешат припасть
Паломники, которых мучит страсть,
Которых тяготит Амура власть.
Предание гласит, что Магдалина,
Уже готовясь к смерти, как-то раз
Просила милости у Максимина:
«О, если некогда наступит час,
Что на моей скале, в моей пещере,
Любовники придут служить Венере,
Пусть тотчас же погаснет пламень их,
Пусть станет стыдно им страстей своих,
И пусть лишь горестное отвращенье
Заменит их любовь и их волненье!»
Благочестивый старец внял словам,
Что молвила бывалая святая,
И с этих пор, ту местность посещая,
Мы ненавидим самых милых нам.
Прекрасно ознакомившись с Марселем
И чудесам его воздав хвалу,
Наш Ла Тримуйль с суровым д’Аронделем
Отправились на чудную скалу,
Которую зовут Благоуханной
И чье могущество, на гибель злу,
Монахи прославляют неустанно.
Влечет француза набожность туда,
Британца ж – любопытство, как всегда.
Взойдя наверх, на каменных ступенях
Они увидели перед собой
Толпу людей, стоящих на коленях.
Две путницы там были. У одной
Струились слезы, жалость вызывая;
Была надменна и горда другая.
О, встреча сладостная! Чудный час!
Они своих любовниц отыскали!
Они от них не отрывают глаз
В том месте покаянья и печали.
Юдифь рассказывает в двух словах,
Как за позор и пережитый страх
Ее рука разбойнику отмстила.
Она в опасности не позабыла
Кошель, набитый туго, захватить,
Решив разумно, что не может быть
Он нужен Мартингеру в преисподней.
Затем, добравшись, с помощью Господней,
Со смертоносной саблею в руках,
До выхода из замка, впопыхах
Они с подругой разыскали море
И сели на корабль какой-то вскоре;
Без торгу капитану заплатив
И тотчас же оставивши залив,
Они помчались по Тирренским волнам,
И небо, вняв моленьям их безмолвным,
Свело вместе с рыцарями их
Под дивной сенью этих скал святых.
О, чудо! О, волшебное явленье!
Рассказ Юдифи в силах вызвать был
В ее любовнике лишь отвращенье.
О, небо! Что за злобное презренье
В его душе сменило прежний пыл!
Юдифи он не менее претил.
А Ла Тримуйль, в чьем сердце Доротея
Жила одна, соперниц не имея,
Ее находит вдруг совсем дурной
К ней поворачивается спиной.
Красавица была не в силах тоже
На рыцаря взглянуть без мелкой дрожи;
И лишь высоко, в роще неземной,
Спокойно радовалась Магдалина,
Что этим чудесам – она причина.
Увы! Была обманута она;
Ей, правда, обещали все святые
На нескончаемые времена,
Что на ее скале, как в чарах сна,
Влюбленные разлюбят; но Мария
Забыла попросить, чтоб, исцелясь
От чувства прежнего, в другую связь
Любовники вступить не пожелали.
Предвидел то и Максимин едва ли.
Поэтому тотчас же обняла
Юдифь Тримуйля, не храня приличий,
И Доротея сладостной добычей
Британцу восхищенному была.
Аббат Тритем считал, что, без сомненья,
Мария улыбалась с облаков,
Подобные увидев измененья.
Я оправдать ее вполне готов.
Нам добродетель нравится; но все же
И к прежнему занятью тянет тоже.
Едва спустились вниз со скал святых
Герои и красавицы, как сразу
К ним возвратился прежний разум их.
Известно уж по моему рассказу,
Что чары действуют лишь в месте том.
Тримуйль, припоминая со стыдом,
Как он возненавидел Доротею,
Ей целовал лицо, и грудь, и шею,
И никогда, казалось, ни верней,
Ни более покорным не был ей;
Она ж, от слез не находя покоя,
В объятьях дорогого ей героя
Ему дарила прежнюю любовь.
Юдифь вернулась к д’Аронделю вновь,
Не гневаясь и не гордясь нимало,
И снова все, как было раньше, стало;
И даже Магдалина без труда
Грехи им отпустила навсегда.
Француз отважный и герой британский,
К себе на седла милых посадив,
Отправились дорогой Орлеанской;
Один и тот же дышит в них порыв:
За родину помериться с врагами.
Но по пути, как вы поймете сами,
Они остались добрыми друзьями,
И ни красавицы, ни короли
Меж ними распрей вызвать не могли.
Песнь десятая