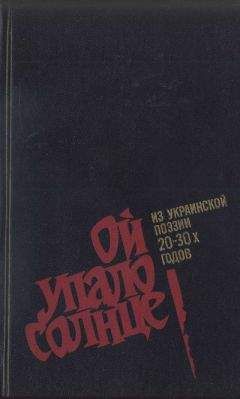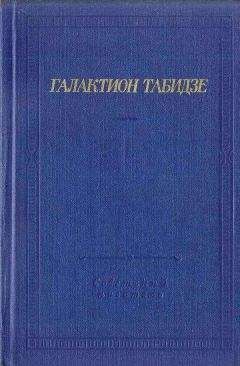Павел Арский - Из поэзии 20-х годов
1923
Алексей Самобытник
Революция
Тебе б гигантским, тяжким ломом
Дробить унылой жизни льды
И поднимать мятежным громом
Суровых пахарей труды.
Тебе б дождей веселых бусы
Рассыпать на землю, любя…
Но робкие душою трусы
Позорно предали тебя.
Идя с опущенным забралом,
В борьбе кружась, как муравьи,
Они пред гордым капиталом
Склоняли головы свои.
И лживым, сумрачным покровом
Тебя сковали на заре,
Но ты рванулася и снова
Весной запахло в Октябре.
Не ты ль на злобные утесы
Взметнула гневные полки?!
Как волны, движутся матросы
И мечут гром броневики.
Дрожит земля победным гимном,
Аврора гордый шлет снаряд, —
И падает надменный Зимний
К ногам рабочих и солдат.
А ты в лицо стальным декретом
Бросаешь весело врагам:
«Я вновь жива, вся власть Советам,
Вся власть мозолистым рукам».
Да будет дух твой вечно молод,
Как в море пенистый прибой, —
А в стяге Красном над тобой
Горят, как солнце, серп и молот.
Рабочий клуб
В раскатах будничного гула
Мне отдых сладкий мил и люб,
Недаром сердце потянуло
В родной очаг — рабочий клуб.
Сегодня там огромный митинг:
Колчак разбит на Иртыше…
Какие песни загремите
В моей взволнованной душе?..
О, в тихом зале, тихо рея,
Забрезжит Красный Петроград
В просторах страждущей Кореи,
В огне парижских баррикад…
Кто жаждет солнечных сверканий
Сквозь гнет кровавого дождя,
За мной!.. И гул рукоплесканий
Покроет старого вождя.
А после — шум и разговоры:
— Билеты? Есть. А кто поет?
— Антанту ждут переговоры…
— Эх увеличить бы паек!
— Борьба и творчество — наш
лозунг!
— Ты прав, да, трудно воевать.
Но, не изранив рук, и розу
В саду весеннем не сорвать…
— Семейство здесь? — Давно в деревню
Отправил, горе с лишним ртом…
Беседа музыки напевней
Вокруг рокочет, а потом…
К буфету двинется, качая
Меня, толпа, чтоб в свой черед
Добыть стакан несладкий чая
И скромный, скромный бутерброд.
Но грянет музыка, и дальний
Утихнет гул в живой волне…
А я в задумчивой читальне
Один останусь в тишине.
Чтоб у забытого мольберта,
Достав заветную тетрадь,
Под гул далекого концерта
Стихи для «Правды» набросать.
Григорий Санников
В ту ночь
Я помню кладбище железное
большое:
За городом,
В широком тупике,
Рядами черными стояли паровозы,
Скованные сном.
А перед ними храмом опустелым
Уныло высилось кирпичное депо.
Оставив службу, горны потушив,
Ушли рабочие сражаться.
Ушли…
И длинные, пустые тянулись дни.
Не громыхало,
Не лязгало железо,
Не грохотали молотки.
И только дождь
Пронзительный и пестрый
Струился долго и упорно
На это кладбище большое,
На эту мертвую и сумрачную мощь.
И вот не знаю —
Видел ли во сне,
Иль это все случилось наяву:
Была осенняя глухая ночь,
Была на кладбище густая тишина.
Безмолвные стояли паровозы
И, темный пыл в себе тая,
Застывшим ужасом железным
В пустые пялились поля.
И вдруг гудок,
Над мертвыми гудок тревожный
Отчаянно заклокотал,
И всколыхнулись паровозы в тупике.
Тенями черными хватаясь
За вспугнутую темноту
И громоздясь и громыхая
Вздохнули грузно.
Пульсируя цилиндрами,
Ударил в поршни мощный пар
И регуляторы открылись.
И поступью чугунной
На рельсы налегая,
Стенаньями и гулом
И ревом разрывая мрак, —
Резервной армией в чудовищном
порядке
Тронулись тревожно паровозы.
Земля вздрагивала,
Ширились, приподымались небеса,
И отступающая луна
Озаряла
Железное восстанье паровозов…
В ту ночь
Рабочие вступили в город.
1922
Прощание с керосиновой лампой
Горяча заката киноварь.
Вот с нее начать бы мне
Сказ о лампе керосиновой,
Об уездной старине.
Пожилую, неприветную,
Закоптелую, в пыли,
Мне вчера подругу медную
Из чулана принесли.
За окном соборов зодчество
Без крестов и без огней.
Я затеплил в одиночестве
Лампу юности моей.
Сразу все былое вспомнилось:
Ночи, зори, петухи,
Золотое пламя «молнии»
На мои лилось стихи.
Покорясь пьянящим чаяньям,
Дерзок, прыток и упрям,
Я навек бросался в плаванья
По развернутым морям.
Я по странам неисхоженным
С караванами шагал,
Над стихами невозможными
И смеялся и рыдал.
Помнишь, лампа, время зимнее.
Ночь. Беспамятство снегов.
Девушке с глазами синими
Говорил я про любовь.
Ты всему была свидетелем.
Но однажды в час ночной
Догорела, не заметила —
Я покинул дом родной.
Тишину твою уездную,
Сад с оркестром в полумгле
И свою каморку тесную
С кипой книжек на столе, —
Все, что сердцу было дорого,
Все оставил, разлюбил,
И в огнях большого города
В революцию вступил.
Годы шли крутые, быстрые,
Буреломные года.
По стране рассветной выстрелы
Грохотали…
А когда,
Вслед за песнею победною,
Вспыхнул свет электроламп,
Керосиновую, медную
Отнесли тебя в чулан.
Под портретом государевым
Возле сваленных икон
Отсияло твое зарево,
Схоронился медный звон.
Отошла в былое бедная
Дней уездных тишина.
Керосиновая, медная,
Никому ты не нужна.
Нынче всюду электричество.
Край наш вятский знаменит.
Но тот пламень твой лирический
До сих пор во мне звенит.
Попрощаемся, ровесница,
Лампа юности моей.
Передам тебя я с песнею
В краеведческий музей.
Будешь ты под черным номером
Мало места занимать,
Обо всем, что было-померло,
Будешь ты напоминать.
Может кто-нибудь задумавшись,
Вспомнит ночи при огне
И мечты мужавших юношей
Там в уездной тишине.
Горяча заката киноварь…
И со всею стариной
Город в славе керосиновой
Потухает предо мной.
1928
Привет воде
Не в круговом ли бурь движении
До розовых долин Аму
Дошел песчаным наваждением
Сахары огненный самум?
Теченья рек границы сломаны,
И где зеркалился узбой —
Все оказалось завоеванным
Песками, зноем и тоской.
Невыносимое видение —
Безводная сухая ширь.
Из ночи в ночь ты шла, Туркмения,
Вращая вековой чигирь.
Ты на песках была распластана
Страна неволи и беды,
И солнце жгло, и ветер властвовал,
И люди гибли без воды.
Там в пустыне за колодцами,
По беспамятным пескам
Ходит, бродит вместе с овцами
Одногорбая тоска.
Ни воды, ни корма малого,
А колодцы пусты.
Только ветры, ветры шалые
Да колючие кусты.
Ой, кочевье невеселое,
Суховейный, черный год!
Горевал, повесив голову,
В Кара-Кумах скотовод…
И вдруг вода речная, полая
Крутой, широкой полосой,
Вода, как свет, в пустыню голую,
В Келифский хлынула узбой.
Привет воде! Цвети, Туркмения!
Идет вода, кипит волной,
И ей навстречу с упоением
Шуршат пески на водопой.
Там, где когда-то бесполезная.
Бесплодная была земля,
Машина поступью железною
Открыла новые поля.
И ныне там встают оазисы,
И, славя первый водомет,
Унылая пустыня Азии
Сама себя не узнает.
И ветром влажным, небывалым
Шумит песчаный океан…
Так здесь открытием канала
Был начат пятилетний план.
1930