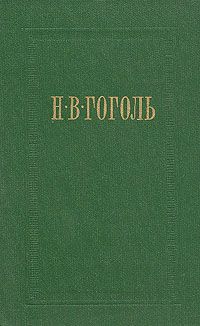Владислав Ходасевич - Тяжёлая лира
Из дневника
Должно быть, жизнь и хороша,
Да что поймешь ты в ней, спеша
Между купелию и моргом,
Когда мытарится душа
То отвращеньем, то восторгом?
Непостижимостей свинец
Всё толще над мечтой понурой, —
Вот и дуреешь наконец,
Как любознательный кузнец
Над просветительной брошюрой.
Пора не быть, а пребывать,
Пора не бодрствовать, а спать,
Как спит зародыш крутолобый,
И мягкой вечностью опять
Обволокнуться, как утробой.
Перед зеркалом
Nel mezzo del cammin di nostra vita[2]
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем — так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.
Окна во двор
Несчастный дурак в колодце двора
Причитает сегодня с утра,
И лишнего нет у меня башмака,
Чтобы бросить его в дурака.
… … … … … … … … … … … …
Кастрюли, тарелки, пьянино гремят,
Баюкают няньки крикливых ребят.
С улыбкой сидит у окошка глухой,
Зачарован своей тишиной.
… … … … … … … … … … … …
Курносый актер перед пыльным трюмо
Целует портреты и пишет письмо, —
И, честно гонясь за правдивой игрой,
В шестнадцатый раз умирает герой.
… … … … … … … … … … … …
Отец уж надел котелок и пальто,
Но вернулся, бледный как труп:
«Сейчас же отшлепать мальчишку за то,
Что не любит луковый суп!»
… … … … … … … … … … … …
Небритый старик, отодвинув кровать,
Забивает старательно гвоздь,
Но сегодня успеет ему помешать
Идущий по лестнице гость.
… … … … … … … … … … … …
Рабочий лежит на постели в цветах.
Очки на столе, медяки на глазах.
Подвязана челюсть, к ладони ладонь.
Сегодня в лед, а завтра в огонь.
… … … … … … … … … … … …
Что верно, то верно! Нельзя же силком
Девчонку тащить на кровать!
Ей нужно сначала стихи почитать,
Потом угостить вином…
… … … … … … … … … … … …
Вода запищала в стене глубоко:
Должно быть, по трубам бежать нелегко,
Всегда в тесноте и всегда в темноте,
В такой темноте и в такой тесноте!
Бедные рифмы
Всю неделю над мелкой поживой
Задыхаться, тощать и дрожать,
По субботам с женой некрасивой
Над бокалом, обнявшись, дремать,
В воскресенье на чахлую траву
Ехать в поезде, плед разложить,
И опять задремать, и забаву
Каждый раз в этом всем находить,
И обратно тащить на квартиру
Этот плед, и жену, и пиджак,
И ни разу по пледу и миру
Кулаком не ударить вот так, —
О, в таком непреложном законе,
В заповедном смиренье таком
Пузырьки только могут в сифоне —
Вверх и вверх, пузырек с пузырьком.
«Сквозь ненастный зимний денек…»
Сквозь ненастный зимний денек
У него сундук, у нее мешок —
По паркету парижских луж
Ковыляют жена и муж.
Я за ними долго шагал,
И пришли они на вокзал.
Жена молчала, и муж молчал.
И о чем говорить, мой друг?
У нее мешок, у него сундук…
С каблуком топотал каблук.
Баллада («Мне невозможно быть собой…»)
Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.
Мне лиру ангел подает,
Мне мир прозрачен, как стекло,
А он сейчас разинет рот
Пред идиотствами Шарло.
За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком
Беззлобный, смирный человек
С опустошенным рукавом?
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Безрукий прочь из синема
Идет по улице домой.
Ремянный бич я достаю
С протяжным окриком тогда
И ангелов наотмашь бью,
И ангелы сквозь провода
Взлетают в городскую высь.
Так с венетийских площадей
Пугливо голуби неслись
От ног возлюбленной моей.
Тогда, прилично шляпу сняв,
К безрукому я подхожу,
Тихонько трогаю рукав
И речь такую завожу:
«Pardon, monsieur[3], когда в аду
За жизнь надменную мою
Я казнь достойную найду,
А вы с супругою в раю
Спокойно будете витать,
Юдоль земную созерцать,
Напевы дивные внимать,
Крылами белыми сиять, —
Тогда с прохладнейших высот
Мне сбросьте перышко одно:
Пускай снежинкой упадет
На грудь спаленную оно».
Стоит безрукий предо мной
И улыбается слегка,
И удаляется с женой,
Не приподнявши котелка.
Джон Боттом
Джон Боттом славный был портной,
Его весь Рэстон знал.
Кроил он складно, прочно шил
И дорого не брал.
В опрятном домике он жил
С любимою женой
И то иглой, то утюгом
Работал день-деньской.
Заказы Боттому несли,
Порой издалека.
Была привинчена к дверям
Чугунная рука.
Тук-тук — заказчик постучит,
Откроет Мэри дверь, —
Бери-ка, Боттом, карандаш,
Записывай да мерь.
Но раз… Иль это только так
Почудилось слегка? —
Как будто стукнула сильней
Чугунная рука.
Проклятье вечное тебе,
Четырнадцатый год!..
Потом и Боттому пришел,
Как всем другим, черед.
И с верной Мэри целый день
Прощался верный Джон,
И целый день на домик свой
Глядел со всех сторон.
И Мэри так ему мила,
И домик так хорош,
Да что тут делать? Всё равно:
С собой не заберешь.
Взял Боттом карточку жены
Да прядь ее волос,
И через день на континент
Его корабль увез.
Сражался храбро Джон, как все,
Как долг и честь велят,
А в ночь на третье февраля
Попал в него снаряд.
Осколок грудь ему пробил,
Он умер в ту же ночь,
И руку правую его
Снесло снарядом прочь.
Германцы, выбив наших вон,
Нахлынули в окоп,
И Джона утром унесли
И положили в гроб.
И руку мертвую нашли
Оттуда за версту
И положили на груди…
Одна беда — не ту.
Рука-то плотничья была,
В мозолях. Бедный Джон!
В такой руке держать иглу
Никак не смог бы он.
И возмутилася тогда
Его душа в раю:
«К чему мне плотничья рука?
Отдайте мне мою!
Я ею двадцать лет кроил
И на любой фасон!
На ней колечко с бирюзой,
Я без нее не Джон!
Пускай я грешник и злодей,
А плотник был святой, —
Но невозможно мне никак
Лежать с его рукой!»
Так на блаженных высотах
Всё сокрушался Джон,
Но хором ангельской хвалы
Был голос заглушен.
А между тем его жене
Полковник написал,
Что Джон сражался как герой
И без вести пропал.
Два года плакала вдова:
«О Джон, мой милый Джон!
Мне и могилы не найти,
Где прах твой погребен!..»
Ослабли немцы наконец.
Их били мы, как моль.
И вот — Версальский, строгий мир
Им прописал король.
А к той могиле, где лежал
Неведомый герой,
Однажды маршалы пришли
Нарядною толпой.
И вырыт был достойный Джон,
И в Лондон отвезен,
И под салют, под шум знамен
В аббатстве погребен.
И сам король за гробом шел,
И плакал весь народ.
И подивился Джон с небес
На весь такой почет.
И даже участью своей
Гордиться стал слегка.
Одно печалило его,
Одна беда — рука!
Рука-то плотничья была,
В мозолях… Бедный Джон!
В такой руке держать иглу
Никак не смог бы он.
И много скорбных матерей
И много верных жен
К его могиле каждый день
Ходили на поклон.
И только Мэри нет как нет.
Проходит круглый год —
В далеком Рэстоне она
Всё так же слезы льет:
«Покинул Мэри ты свою,
О Джон, жестокий Джон!
Ах, и могилы не найти,
Где прах твой погребен!»
Ее соседи в Лондон шлют,
В аббатство, где один
Лежит безвестный, общий всем
Отец, и муж, и сын.
Но плачет Мэри: «Не хочу!
Я Джону лишь верна!
К чему мне общий и ничей?
Я Джонова жена!»
Всё это видел Джон с небес
И возроптал опять.
И пред апостолом Петром
Решился он предстать.
И так сказал: «Апостол Петр,
Слыхал я стороной,
Что сходят мертвые к живым
Полночною порой.
Так приоткрой свои врата,
Дай мне хоть как-нибудь
Явиться призраком жене
И только ей шепнуть,
Что это я, что это я,
Не кто-нибудь, а Джон
Под безымянною плитой
В аббатстве погребен.
Что это я, что это я
Лежу в гробу глухом —
Со мной постылая рука,
Земля во рту моем».
Ключи встряхнул апостол Петр
И строго молвил так:
«То — души грешные. Тебе ж —
Никак нельзя, никак».
И молча, с дикою тоской
Пошел Джон Боттом прочь,
И всё томится он с тех пор,
И рай ему невмочь.
В селенье света дух его
Суров и омрачен,
И на торжественный свой гроб
Смотреть не хочет он.
Звезды