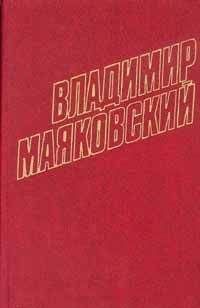Владимир Маяковский - Том 2. Стихотворения и пьесы 1917-1921
Небольшое примечание:
художники
Вильсонов,
Ллойд-Джорджев,
Клемансо
рисуют —
усатые,
безусые рожи —
и напрасно:
всё
это
одно и то же.
Теперь
довольно смеющихся глав нам.
В уме
Америку
ясно рисуете.
Мы переходим
к событиям главным.
К невероятной,
к гигантской сути.
День
этот
был
огнеупорный.
В разливе зноя зе́мли тихли.
Ветро́в иззубренные бороны
вотще старались воздух взрыхлить.
В Чикаго
жара непомерная:
градусов 100,
а 80 — наверное.
Все на пляже.
Кто могли — гуляли себе.
А в большей части лежали даже.
Пот
благоухал
на их холеном теле.
Ходили и пыхтели.
Лежали и пыхтели.
Барышни мопсиков на цепочках водили,
и
мопсик,
раскормленный был,
как теленок.
Даме одной,
дремавшей в идиллии,
в ноздрю
сжаревший влетел мотыленок.
Некоторые вели оживленные беседы,
говорили «ах»,
говорили «ух».
С деревьев слетал пух.
Слетал с деревьев мимозовых.
Розовел
на белых шелках и кисеях.
Белел на розовых.
Так
довольно долго
все занимались
приятным времяпрепровождением.
Но уже
час тому назад
стало
кое-что
меняться.
Еле слышное,
разве только что кончиком души,
дуновенье какое-то.
В безветренном море
ширятся всплески.
Что такое?
Чего это ради ее?
А утром
в молнийном блеске
АТА
(Американское Телеграфное Агентство)
город таким шарахнуло радио:
«Страшная буря на Тихом океане.
Сошли с ума муссоны и пассаты.
На Чикагском побережье выловлены рыбы.
Очень странные.
В шерстях.
Носатые».
Вылазили сонные,
не успели еще обсудить явление,
а радио
спешные
вывешивало объявления:
«Насчет рыб ложь.
Рыбак спьяну местный.
Муссоны и пассаты на месте.
Но буря есть.
Даже еще страшней.
Причины неизвестны».
Выход судам запретили большие,
к ним
присоединились
маленькие пароходные компанийки.
Доллар пал.
Чемоданы нарасхват.
Биржа в панике.
Незнакомого
на улице
останавливали незнакомые —
не знает ли чего человек со стороны.
Экстренный выпуск!
Радио!
Выпуск экстренный!
«Радиограмма переврана.
Не бурь раскат.
Другое.
Грохот неприятельских эскадр».
Радио расклеили.
И, опровергая оное,
сейчас же
новое,
последнее,
захватывающее,
сенсационное.
«Не пушечный дым —
океанская синева.
Нет ни броненосцев,
ни флотов,
ни эскадр.
Ничего нет.
Иван».
Что Иван?
Какой Иван?
Откуда Иван?
Почему Иван?
Чем Иван?
Положения не было более запутанного.
Ни одного объяснения
достоверного,
путного.
Сейчас же собрался коронный совет.
Всю ночь во дворце беспокоился свет.
Министр Вильсона
Артур Крупп
заговорился так,
что упал, как труп.
Капитализма верный трезор,
совсем умаялся сам Крезо.
Вильсон
необычайное
проявил упорство
и к утру
решил —
иду в единоборство.
Беда надвигается.
Две тысячи верст.
Верст за тысячу.
За̀ сто.
И…
очертанья идущего
нащупали,
заметили,
увидели маяки глазастые.
Строки
этой главы,
гремите,
время ритмом роя!
В песне —
миф о героях Гомера,
история Трои,
до неузнаваемости раздутая,
воскресни!
Голодный,
с теплом в единственный градус
жизни,
как милости да́ренной,
радуюсь,
ход твой следя легендарный.
Куда теперь?
Где пеш?
Какими идешь морями?
Молнию рвущихся депеш
холодным стихом орамим.
Ворвался в Дарданеллы Иванов разбег.
Турки
с разинутыми ртами
смотрят:
человек —
голова в Казбек! —
идет над Дарданелльскими фортами.
Старики улизнули.
Молодые на мол.
Вышли.
Песни бунта и молодости.
И лишь
до берега вал домёл,
и лишь волною до мола достиг —
бросились,
будто в долгожданном сигнале,
человек на человека,
класс на класс.
Одних короновали.
Других согнали.
Пешком по морю —
и скрылись из глаз.
Других глотает морская ванна,
другими
акула кровавая кутит,
а эти
вошли,
ввалились в Ивана
и в нем разлеглись,
как матросы в каюте.
(А в Чикаго
ничто не сулило пока
для чикагцев страшный час.
Изогнувшись дугой,
оттопырив бока,
веселились,
танцами мчась.)
Замерли римляне.
Буря на Тибре.
А Тибр,
взъярясь,
папе римскому голову выбрил
и пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь.
(А в Чикаго,
усы в ликеры вваля,
выступ мяса облапив бабистый, —
Илл-ля-ля-!
Олл-ля-ля! —
процелованный,
взголённый,
разухабистый.)
Черная ночь.
Без звездных фонарей.
К Вильсону,
скользя по водным массам,
коронованный поэтами
крадется Рейн,
слегка посвечивая голубым лампасом.
(А Чикаго
спит,
обтанцован,
опит,
рыхотелье подушками выхоля.
Синь уснула.
Сопит.
Море храпом храпит.
День встает.
Не расплатой на них ли?)
Идет Иван,
сиянием брезжит.
Шагает Иван,
прибоями брызжет.
Бежит живое.
Бежит, побережит.
Вулканом мир хорохорится рыже.
Этого вулкана нет на
составленной старыми географами карте.
Вселенная вся,
а не жалкая Этна,
народов лавой брызжущий кратер.
Ревя несется
странами стертыми
живое и мертвое
от ливня лав.
Одни к Ивану бегут
с простертыми
руками,
другие — к Вильсону стремглав.
Из мелких фактов будничной тины
выявился факт один:
вдруг
уничтожились все середины —
нет на земле никаких середин.
Ни цветов,
ни оттенков,
ничего нет —
кроме
цвета, красящего в белый цвет,
и красного,
кровавящего цветом крови.
Багровое все становилось багро́вей.
Белое все белей и белее.
Иван
через царства
шагает по крови,
над миром справляя огней юбилеи.
Выходит, что крепости строили даром.
Заткнитесь, болтливые пушки!
Баста!
Над неприступным прошел Гибралтаром.
И мир
океаном Ивану распластан.
(А в Чикаго
на пляже
выводок шлюх
беснованием моря встревожен.
Погоняет время за слухом слух,
отпустив небылицам вожжи.)
Какой адмирал
в просторе намытом
так пути океанские выучит?!
Идет,
начиненный людей динамитом.
Идет,
всемирной злобою взрывчат.
В четыре стороны расплылось
тихоокеанское лоно.
Иван
без карт,
без компасной стрелки
шел
и видел цель неуклонно,
как будто
не с моря смотрел,
а с тарелки.
(А в Чикаго
до Вильсона
докатился вал,
брошенный Ивановой ходьбою.
Он боксеров,
стрелков,
фехтовальщиков сзывал,
чтобы силу наяривать к бою.)
Вот та́к открыватели,
так Колумбы
сияли,
когда
Ивану
до носа —
как будто
с тысячезапахой клумбы —
земли приближавшейся запах донесся.
(А в Чикаго
боксеров
распирает труд.
Положили Вильсона наземь
и…
ну тереть!
Натирают,
трут,
растирают силовыми мазями.)
Сверльнуло глаза́ маяка одноглазье —
и вот
в мозги,
в глаза,
в рот,
из всех океанских щелей вылазя,
Америка так и прет и прет.
Взбиралась с разбега верфь на верфь.
На виадук взлетал виадук.
Дымище такой,
что, в черта уверовав,
идешь, убежденный,
что ты в аду.
(Где Вильсона дряблость?
Сдули!
Смолодел на сорок годов.
Животами мышцы вздулись.
Ощупали.
Есть.
Готов.)
Доходит,
пеной волну опеня,
гигантам домам за крыши замча,
на берег выходит Иван
в Америке,
сухенький,
даже ног не замоча.
(Положили Вильсону последний заклеп
на его механический доспех,
шлем ему бронированный возвели на лоб,
и к Ивану он гонит спех.)
Чикагцы
себя
не любят
в тесных улицах пло́щить.
И без того
в Чикаго
площади самые лучшие.
Но даже
для чикагцев непомерная
площадь
была приготовлена для этого случая.
Люди,
место схватки орамив,
пускай непомерное! —
сузили в узел.
С одной стороны —
с горностаем,
с бобрами,
с другой —
синевели в замасленной блузе.
Лошади
в кашу впутались
в ту же.
К бобрам —
арабский скакун,
к блузам —
тяжелые туши битюжьи.
Вздымают ржанье,
грозят рысаку.
Машины стекались, скользя на мази́.
На классы разбился
и вывоз
и ввоз.
К бобрам
изящный ушел лимузин,
к блузам
стал
стосильный грузовоз.
Ни песне,
ни краске не будет отсрочки,
бой вас решит — судия строгий.
К бобрам —
декадентов всемирных строчки.
К блузам —
футуристов железные строки.
Никто,
никто не избегнет возмездья —
звезде,
и той
не уйти.
К бобрам становитесь,
генералы созвездья,
к блузам —
миллионы Млечного пути.
Наружу выпустив скованные лавины,
земной шар самый
на две раскололся полушарий половины
и, застыв,
на солнце
повис весами.
Всеми сущими пушками
над
площадью объявлен был
«чемпионат
всемирной классовой борьбы!»
В ширь
ворота Вильсону —
верста,
и то́ он
боком стал
и еле лез ими.
Сапожищами
подгибает бетон.
Чугунами гремит,
желе́зами.
Во Ивана входящего вперился он —
осмотреть врага,
да нечего
смотреть —
ничего,
хорошо сложён,
цветом тела в рубаху просвечивал.
У того —
револьве́ры
в четыре курка,
сабля
в семьдесят лезвий гнута,
а у этого —
рука
и еще рука,
да и та
за пояс ткнута.
Смерил глазом.
Смешок по усам его.
Взвил плечом шитье эполетово:
«Чтобы я —
о господи! —
этого са̀мого?
Чтобы я
не смог
вот этого?!»
И казалось —
растет могильный холм
посреди ветров обвываний.
Ляжет в гроб,
и отныне
никто,
никогда,
ничего
не услышит
о нашем Иване.
Сабля взвизгнула.
От плеча
и вниз
на четыре версты прорез.
Встал Вильсон и ждет —
кровь должна б,
а из
раны
вдруг
человек полез.
И пошло ж идти!
Люди,
дома,
броненосцы,
лошади
в прорез пролезают узкий.
С пением лезут.
В музыке.
О горе!
Прислали из северной Трои*
начиненного бунтом человека-коня!
Метались чикагцы,
о советском строе
весть по оторопевшим рядам гоня.
Товарищи газетчики,
не допытывайтесь точно,
где была эта битва
и была ль когда.
В этой главе
в пятиминутье всредоточены
бывших и не бывших битв года.
Не Ленину стих умиленный.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы,
миллионы пою.
Внимайте же, историки и витии,
битв не бывших видевшему перипетии!
«Вставай, проклятьем заклейменный» —
радостная выстрелила весть.
В ответ
миллионный
голос:
«Готово!»
«Есть!»
«Боже, Вильсона храни.
Сильный, державный», —
они
голос подняли ржавый.
Запела земли половина красную песню.
Земли половина белую песню запела.
И вот
за песней красной,
и вот
за песней за белой —
тараны затарахтели в запертое будущее,
лучей щетины заскребли,
замели.
Руки разрослись,
легко распутывающие
неведомые измерения души и земли.
Шарахнутые бунта веником
лавочники,
не доведя обычный торг,
разбежались ошпаренным муравейником
из банков,
магазинов,
конторок.
На толщь душивших набережных и дамб
к городам
из океанов
двинулась вода.
Столбы телеграфные то здесь,
то там
соборы вздергивали на провода.
Бросив насиженный фундамент,
за небоскребом пошел небоскреб,
как тигр в зверинце —
мясо
фунтами,
пастью ворот особнячишки сгреб.
Сами себя из мостовых вынув, —
где, хозяин, лбище твой? —
в зеркальные стекла бриллиантовых магазинов
бросились булыжники мостовой.
Не боясь сесть на́ мель,
не боясь на колокольни напороть туши,
просто —
как мы с вами —
шагали киты сушей.
Красное все,
и все, что бе́ло,
билось друг с другом,
билось и пело.
Танцевал Вильсон
во дворце кэк-уок,
заворачивал задом и передом,
да не доделала нога экивок,
в двери смотрит Вильсон,
а в две́ри там —
непоколебимые,
походкой зловещею,
человек за человеком,
вещь за вещью
вваливаются в дверь в эту:
«Господа Вильсоны,
пожалте к ответу!»
И вот,
притворявшиеся добрыми,
колье
на Вильсоних
бросились кобрами.
Выбирая,
которая помягче и почище,
по гостиным
за миллиардершами
гонялись грузовичищи.
Не убежать!
Сороконогая
мебель раскинула лов.
Топтала людей гардеробами,
протыкала ножками столов.
Через Рокфеллеров,
валяющихся ничком,
с горлами,
сжимаемыми собственным воротничком,
растоптав,
как тараканов,
вывалилась,
в Чикаго канув.
По улицам
в сажѐни
дома не видно от дыма сражений.
Как в кинематографе
бывает —
вдруг
крупно —
видят:
сквозь хао́с
ползущую спекуляцию добивает,
встав на задние лапы,
Совнархоз.
Но Вильсон не сдается,
засел во дворце,
нажимает золотые пружины,
и выстраивается цепь —
нечеловеческие дружины.
Страшней, чем танки,
чем войск роты,
безбрюхий встал,
пошел сторотый,
мильонозубый
ринулся голод.
Город грызнет — орехом расколот.
Сгреб деревню — хрустнула косточкой.
А людей,
а людей и зверей —
просто в рот заправляет горсточкой.
Впереди его,
вывострив ухо,
путь расчищая, лезет разруха.
Дышит завод.
Разруха слышит.
Слышит разруха — фабрика дышит.
Грохнет по фабрике —
фабрика свалена.
Сдавит завод —
завод развалина.
Рельс обломком крушит как палицей.
Все разрушается,
гибнет,
валится.
Готовься!
К атаке!
Трудись!
Потей!
Горло голода,
разрухи глотку
затянем
петлей железнодорожных путей!
И когда пресекаться дух стран
стал,
голодом сперт,
тогда,
раскачивая поездов таран,
двинулся вперед транспорт.
Ветрилась паровозов борода седая,
бьются,
голод сдал,
и по нем,
остатки съедая,
груженные хлебом прошли поезда.
Искорежился, —
и во гневе
Вудро,
приказав:
«сразите сразу»,
новых воинов высылает рой —
смертоноснейшую заразу.
Идут закованные в грязевые брони
спирохет на спирохете,
вибрион на вибрионе.
Ядом бактерий,
лапами вшей
кровь поганят,
ползут за шей.
Болезни явились
небывалого фасона:
вдруг
человек
становится сонный,
высыпает рябо́,
распухает
и лопается грибом.
Двинулись,
предводимые некою
радугоглазой аптекою,
бутыли карболочные выдвинув в бойницы,
лазареты,
лечебницы,
больницы.
Вши отступили,
сгрудились скопом.
Вшей
в упор
расстреливали микроскопом.
Молотит и молотит дезинфекции цеп.
Враги легли,
ножки задрав.
А поверху,
размахивая флаг-рецепт,
прошел победителем мировой Наркомздрав.
Вырывается у Вильсона стон, —
и в болезнях побит и в еде,
и последнее войско высылает он —
ядовитое войско идей.
Демократизмы,
гуманизмы —
идут и идут
за измами измы.
Не успеешь разобраться,
чего тебе нужно,
а уже
философией
голова заталмужена.
Засасывали романсов тиной.
Пением завораживали.
Завлекали картиной.
Пустые головы
книжками
для веса
нагрузив,
пошел за профессором профессор.
Их
молодая встретила орава,
и дулам браунингов в провал
рухнуло римское право
и какие-то еще права.
Простонародью очки втирая,
адом пугая,
прельщая раем,
и лысые, как колено,
и мохнатые, как звери,
с евангелиями вер,
с заговорами суеверий,
рясами вздыбив пыль,
армией двинулись чернобелые попы.
Под градом декретов
от красной лавины
рассыпались
попы,
муллы,
раввины.
А ну, чудотворцы,
со смертных одр
встаньте-ка!
На месте кровавого спора
опора веры валяется —
Пётр
с проломанной головой собственного собора.
Тогда
поэты взлетели на́ небо,
чтоб сверху стрелять, как с аэроплана бы.
Их
на приманку академического пайка
заманивали,
ждали, не спустятся пока.
Поэты бросались, камнем пав, —
в работу их,
перья рифм ощипав!
В «Полное собрание сочинений»,
как в норки,
классики забились.
Но жалости нет!
Напрасно
их
наседкой
Горький
прикрыл,
распустив изношенный авторитет.
Фермами ног отмахивая мили,
кранами рук расчищая пути,
футуристы
прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфетти.
Стенкой в стенку,
валяясь в пы́ли,
билась с адмиралтейством
Лувра труха,
пока
у адмиралтейства
на штыке-шпиле
не повисли Лувра картинные потроха.
Последняя схватка.
Сам Вильсон.
И в ужасе видят вильсонцы —
испепелен он,
задом придавить пытавшийся солнце.
Кто вспомнит безвестных главковерхов* имя,
победы громоздивших одна на одну?!
Загрохотав в международной Цусиме,
эскадра старья пошла ко дну.
Фабриками попирая прошедшего труп,
будущее загорланило триллионом труб:
«Авелем называйте нас
или Каином,
разница какая нам!
Будущее наступило!
Будущее победитель!
Эй, века,
на поклон идите!»
Горизонт перед солнцем расступился злюч.
И только что
мира пол заклавший,
Каин гением взялся за луч,
как музыкант берется за клавиши.
История,
в этой главе
как на ладони бег твой.
Голодая и ноя,
города расступаются,
и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.
Год с нескончаемыми нулями.
Праздник, в святцах
не имеющий чина.
Выфлажено все.
И люди
и строения.
Может быть,
Октябрьской революции сотая годовщина,
может быть,
просто
изумительнейшее настроение.
Разгоняя дирижабли небесам под уклон,
поездами,
на палубах бесчисленных эскадр,
извилинами пеших колонн
за кадром выстраивают человечий кадр.
Большеголовые,
в красном сиянье,
с Марса слетевшие, встали марсияне.
Взыграет аэро,
и снова нет.
И снова птицей солнце засло́нится.
И снова
с отдаленнейших слетаются планет,
винтами развеерясь из-за солнца.
Пустыни смыты у мира с хари,
деревья за стволом расфеерили ствол.
На площади зелени —
на бывшей Сахаре —
сегодня
ежегоднее торжество.
День за днем спускались дни,
и снова густела тьма ночная.
Прежде чем выстроиться сумев,
они
грянули:
— Начинаем!
«Голоса людские,
зверьи голоса,
рев рек
ввысь славословием вьем.
Пойте все и все слушайте
мира торжественный реквием.
Вам, давнишние,
года проголодавшие,
о рае сегодняшнем раструбливая весть,
вам,
милльонолетию давшие
петь,
пить,
есть.
Вам, женщины,
рожденные под горностаевые
мантии,
тело в лохмотья рядя,
падавшие замертво,
за хлебом простаивая
в неисчислимых очередях.
Вам,
легионы жидкокостых детей,
толпы искривленной голодом молодежи,
те, кто дожи́ли до чего-то,
и те,
кто ни до чего не до́жил.
Вам,
звери,
ребрами сквозя,
забывшие о съеденном людьми овсе,
работавшие, кого-то и что-то возя,
пока исхлестанные не падали совсем.
Вам,
расстрелянные на баррикадах духа,
чтоб дни сегодняшние были пропеты,
будущее ловившие в ненасытное ухо,
маляры,
певцы,
поэты.
Вам, которые
сквозь дым и чад,
жизнью, едва державшейся на иотке,
ржавым железом, шестерней скрежеща,
работали всё-таки,
делали всё-таки.
Вам неумолкающих слав слова,
ежегодно расцветающие, вовеки не вянув,
за нас замученные — слава вам,
миллионы живых,
кирпичных
и прочих Иванов».
Парад мировой расходился ровно, —
ведь горе давнишнее душу не бесит.
Годами
печаль
в покой воркестрована
и песней брошена ввысь поднебесить.
Еще гудят голосов отголоски
про смерти чьи-то,
про память вечную.
А люди
уже
в многоуличном лоске
катили минуту, весельем расцвеченную
Ну и катись средь песенного лада,
цвети, земля, в молотьбе и в сеятьбе.
Это тебе
революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!
[1919–1920]