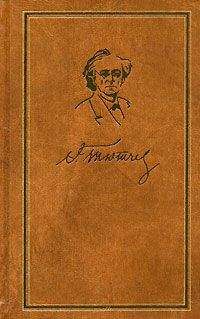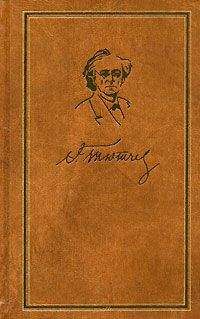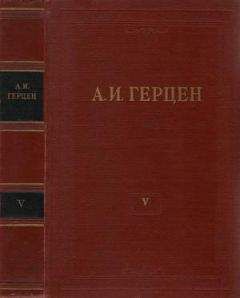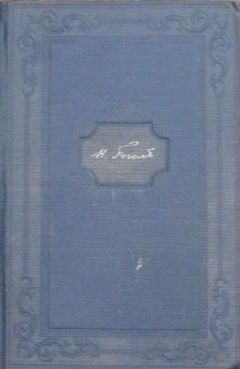Николай Тряпкин - Стихотворения
Стихотворение — 1955 года. По необъяснимой логике лирического резонанса — именно оно становится поворотным пунктом — от лучезарности влюбленного счетовода к горькой любви странника, которого ждет милая, а он никак не долетит…
Планетарное сознание отбрасывается в черноту. Дыбом ставится планета… Звезды падают на дома и застывают "у нас на мезонинах". Вселенная пахнет порохом. Ревут космодромы. Космос пустынен и опасен.
"Дайте ж побыть на последней черте Ойкумены!" — к последней, смертной черте отступает герой, которому предписано было стать покорителем космоса, а он в этом космосе зябнет от одиночества. И все это пишется — в 60-е годы, под гимны Гагарину…
Нет, в "шестидесятники" лотошинского ведуна не запишешь…
В 70-е годы его муза замирает у Полярного круга. Стынут кометы. Ось мира раскаляется. Мать-Земля кружится волчком. Всемирная юдоль — вот его теперешнее мирозданье. "Вьется звездный пух над Гончим псом". То ли мертво-безлюден космос, то ли захвачен чужаками.
"Дорогая сторонка моя! Приготовься на этом рассвете. Расплюются твои сыновья, разбегутся по новой планете".
В 80-е годы звездный шатер в поэзии Тряпкина разгорается ярким, воспаленным, порочным светом. Планета крутится среди блуда. Планета, "вздыбив полушария", летит во тьму. Планета уносится в "безвестность". Гудит всемирный крематорий. "Ветер мироздания" падает на "звездные ресницы" "роковым пеплом". "Вселенская пыль оседает на дедов порог". "Вселенская лужа" — вот что остается человеку от Божьего замысла.
"Планетарное" мышление выворачивается в "гнуснейшую песню двадцатого века": все — "планетарно" и все — "лучезарно" в воплях: "Права человека!" А человек меж тем дремлет в качалке земной у подножья всего мирозданья, загадочно и грозно молчащего.
"Вселенская тишь" покрывает мир, столь "громкий" когда-то в мальчишеских "грезах".
Где спасение?
Увы! Не древние Титаны
Из бездны дыбом поднялись,
А племена твои и страны
В звериной ярости сплелись.
И расщепляются стихии,
И рвутся тверди под Ядром.
И снова ты, моя Россия,
Встаешь смирительным щитом…
Россия — щит, спасающий от всемирного безумия? Или еще: "дозорный пост", "засека". Или даже так: "стражник с плеткой"…
Допустим.
Но надо еще спасти — Россию.
Враги — как "печные тараканы": со всех сторон.
С Запада… Тут придется зафиксировать проклятья в адрес Черчилля: для середины советского века Черчилль — такая же ритуальная мишень, как для 20-х годов — Колчак. Но с 1941 года каменеет ненависть к немцам — обрушивается и на мифологического Зигфрида, и на средневековых рыцарей в музейных экспозициях Ливонского монастыря.
На Восток — взгляд неожиданно умиротворенный: "Принимаю всю грязь, что монголо-татарин месил". Такое евразийство.
На Севере еще легче: "Поднимутся финн, костромич и помор и к нашему дубу придут на сунгор". Костромич приведен явно за компанию, а финн и помор — по делу.
Самая запутанная ситуация — на Юге. Там счеты древние: "В наши глаза хазары швыряют срамную грязь". В нынешнее время неразумные хазары, засевшие "в нашем Кремле", "пускают страну в распыл". Если к этим неистребимым хазарам приложить слегка переиначенные строки из пушкинского "Памятника" и вспомнить Библию, получится следующая картина: "Пусть вопят на весь мир, что живу и люблю я, умея лишь мечами махать, помирая, водяру глушу. Но казаха, тунгуса и дикого ныне еврея к океанам-морям, словно тот Моисей, вывожу".
"Весь мир" может убедиться, что более или менее конкретно тут обрисован только русский, остальные — вполне декоративны. "Бражники-ляхи" Тряпкину куда интереснее. Общий же фронт в "Литании 1613 года" у него обрисован так:
Да не снидет боле духа здесь пришлецкого —
Ни ордынского, на панского, ни грецкого!
Упоминание духа грецкого вполне может быть истолковано как подкоп под православие. Но нельзя же к поэту подходить с такими допросами! "Ныне дикий" еврей может принять на свой счет проклятье Израилю: "Пади с Сионской кручи! Я сам тебя столкну своей пятой". И еще: "Рыдай же, Израиль! Завидуй паденью Содома! Легка его смерть: он погиб от мгновенного грома". Еще хлеще: пусть они ответят "за наших князей, что рождались из гноя и кала, за наших детей, что плясали на стогнах Ваала!"
"Они"… То есть: и за наше бесконечное (княжье еще) междоусобие, и за то, что наши дети плясали на площадях, радуясь падению Державы, — за все это в ответе все тот же "Израиль"? Можно еще приписать Тряпкину злорадство по поводу того, что Ягве никак не исхитрится попасть "в голову Аллаха" (причем картина современного мироздания увенчивается Ассамблеей, надо думать ООНовской, и крышей из тысячи ракет, надо думать, НАТОвских).
Ясно, что вся эта вертепная жуть — типичная анафема по перечислению, что кары Господа любимому сыну, который "с железных крючьев свалился чуть живой", — парафразис плача о русских, не удержавших Божьего замысла.
Точно так же псевдонимны "Стихи о печенегах":
Это были авралы, и штурмы, и встречные планы,
Громовое "Даешь!" и такое бессменное "Есть!"
А потом лихачи уходили туда — в котлованы,
И вовсю воровали — и тачки, и цемент, и жесть…
Печенеги несомненно остолбенели бы, если бы узнали, какая история им тут приписана. Зато русские без всякого остолбенения должны узнать себя и своих гостей в тех фигурах, что "за вином твоим окосеют и рыгают тебе под стол". Они-то и должны внять воплю: "И что мы будем воровать, когда растащим все на свете?" Они и должны ужаснуться тому, что их (нас) ждет:
Не боюсь я ни смерти, ни жадных когтей Немезиды,
Не боюсь, что и в смерти не встречу удачу свою,
А боюсь я того, что подкожные черви и гниды
Источат не меня, а бессмертную душу мою.
Стихи — 1982 года. Кажется, впервые мысль о смерти так отчетливо входит в стихи. Биографы выяснят, связано ли это с личными драмами поэта (переселение из подмосковного Лотошина в столицу тоже дорого ему далось), или навеяно предчувствием распада Державы, уже обжегшейся в Афгане и теперь прислушивающейся к тому, как медленно отдает концы последний крепкий генсек, еще удерживающий страну в несокрушимом величии, в традиционном единстве, в железной стабильности, короче — в Застое.
Тема гибели уходит у Тряпкина в изначальное ощущение того, что Державе нужны жертвы. "Наши иволги сомлели в конце сороковых"… (Хочется добавить словами сверстника: сороковых-роковых). В середине 60-х — о том же: "Ты поляжешь в поле под картечью, ты истлеешь в глыбах рудников". Меж тем, отмерено жить Николаю Ивановичу еще тридцать три года. И все это время — мысль о смерти: "На каком-нибудь починке я источу последний пыл и слягу в старой веретинке у староверческих могил…" До восьмидесяти дожил. А все о том же: "Не гулять мне долго, не гостить". Не о собственной гибели мысль, а о гибели страны. "Отобрали у нас Россию…"
Кто отобрал? Грубый тевтон? Бражник-лях? Дикий еврей, вылупившийся из полумифического хазарина? Свалить бы на них, да не получается. Ужас в том, что от нас же самих порча, распад и гибель. "Из кровей же моих, из блуда…" Вот откуда распад страны. "И теперь мы — ни псы, ни кмети, — запропали среди репья. Потеряли мы все на свете. Потеряли самих себя". От этого — боль, глубокая, потаенная, смертная. "Не заморская тля-паскуда прямо в душу мою впилась, а из жил моих, вот отсюда, эта гибель моя взялась…"
Откуда же она взялась?
На Севере, когда в военную пору "вдруг стала до боли близкой" древность, Русь представилась — такая "рассякая-необузданная", что поверилось: "поплывем Лукоморьями пьяными да гульнем островами Буянами".
Трезвость наступила в зрелости, на переломе от космодромных 60-х к застойным 70-м: засветилась "Русь радарная", и послышался "в кости моей хруст". Тогда во спасение от глобальности (надо же, как слово-то угадал: Русь ты моя глобальная, знаю твою беду" — это за три десятилетия до триумфов мировой "восьмерки") — вот от такой беды и захотелось в скит, в глушь, в тишь.
Однако околеть под забором оказалось можно и в тиши-глуши. К 80-м годам проблемы стягиваются в узел: не супостаты нас сгубили — отцы передрались. Краткий очерк истории России умещен в несколько строк 1981 года:
Прогнали иродов-царей,
Разбили царских людоедов,
А после — к стенке, поскорей
Тянули собственных полпредов.
А после — хлопцы-косари
С таким усердьем размахнулись,
Что все кровавые цари
В своих гробах перевернулись.
Добавить хочется лишь строчку из стихотворения 1982 года: "И нет пока истории другой…"