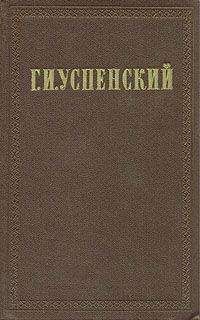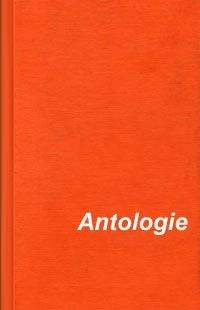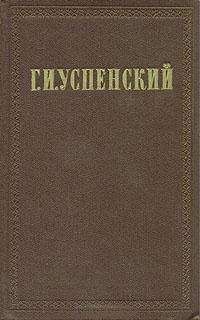Владимир Соловьев - Бродский. Двойник с чужим лицом
Слова эти имеют причиной не отчаяние, а возникли как результат – вот что мне пришлось преодолеть! Преодоление языка, толчки, чтобы сдвинуть слово с мертвой точки, чтобы не дать ему окостенеть, чтобы оно, как душа наша, отрывалось бы иногда от тела, от предмета, от вещей реальности. Вот о чем помышлял Осип Мандельштам, а вслед за ним ИБ. Эманация и эмансипация слова, его свободное парение между духом и материей – скрещивая культуры, делая русскому языку зарубежные прививки, ИБ завоевывает для родного языка свободу духа, ибо вчерашняя свобода – это сегодняшняя неволя.
Ввиду полного отрыва от читателя есть здесь своя опасность – полного отрыва от культуры: порою стихи ИБ кажутся переводом, а не подлинником, подстрочником, а не оригиналом. Дело, конечно, не только в головокружительном новаторстве ИБ, но и в традиционности русской культуры. Такие истории, кстати, в ней уже случались – художник XVIII века Иван Фирсов обладал первоклассным, европейским талантом, но России остался чужд и остался в ее культуре гадким утенком, в котором никто так и не признал прекрасного лебедя. Альбинос, изгой, отелло (с маленькой буквы, конечно). Для ИБ спасение, что он поэт, а не живописец: он имеет дело со словом, от Дездемоны он требует не верности, но общедоступности. Латынь притягивается у него матом – как магнитом. В отличие от артистичного и блестящего рационализма Набокова ему в помощь еще и повышенный иудейский сенсуализм. Но отщепенство маячит на горизонте все равно – не моральное, а культурное, не политическое, а географическое: опасность полного и окончательного разрыва с русской культурой.
Бывает, инородное тело, оказавшись в чужой среде, взаимодействует с ней, а бывает – ею отвергается.
Мы помним, что произошло с Луи Вашканским, самоотверженным пациентом доктора Барнарда – при трансплантации сердца: отторжение.
Это уже трагедия поэта, а не человека. Другое дело, что гений, быть может, не подчиняется общим законам, а создает собственные. Но это еще вопрос и это уже другой вопрос, и решать его надо в другой главе – на конкретном материале стихов.
Глава 11. Сравнительные жизнеописания не по Плутарху
Все были между собою взаимно знакомы, и все взаимно уважали друг друга.
ДостоевскийКоротко говоря, человек, создавший мир в себе и носящий его, рано или поздно становится инородным телом в той среде, где он обитает. И на него начинают действовать все физические законы: сжатия, вытеснения, уничтожения.
Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя: Исав.
Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя: Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились.
Дети выросли, и стал Исав человеком, искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах.
Быт. 25: 26-27В Комарово, в Доме творчества, где мы пасли своих детей в зимние каникулы, мы каждый вечер собирались у кого-нибудь в комнате, пили, болтали, травили анекдоты. Мы – это целое сообщество, гордое своей связью, сплоченное, спаянное личным и идейным единством. Такой связи нет ни у кого из наших соседей, писателей-побратимов. Чуть ли не каждый из них тайно нам завидует и почтет за честь, если однажды будет приглашен на наши вечерние посиделки, о которых, конечно, всем известно. Мы редко кого и редко когда приглашаем, потому что боимся нарушить нашу целокупность, которая и так, если говорить начистоту, давно уже трещит по швам. Комаровский этот наш дружный зимний заезд демонстративен, хотя демонстрация, увы, отстала от того, что мы демонстрируем, запоздала по времени, и только на сторонний взгляд может показаться, что мы – это мы.
Наши здешние посиделки, я думаю, должны своей ежедневностью вконец исчерпать наши отношения, потому что они факсимильно (и по составу, и по структуре) воспроизводят наши же дни рождения, но те бывают раз в году, по кругу, в сумме пять-шесть раз в году, а здесь день за днем, каждый вечер, а видимся – так по многу раз в день: лучший способ поссорить людей между собой – заставить их жить совместной жизнью. Бог здесь ни при чем – строительство Вавилонской башни само по себе поссорило незадачливых строителей.
Наше единство – мнимое, наша общность – фиктивная. Мы обманываем самих себя, но, кажется, наш обман уже раскрыт нами – всеми вместе и каждым в отдельности. О боже, как скучны стали наши дни рождения и как веселы бывали они прежде! Или только мне они скучны, и зря я говорю от имени других?
Или я сам себе скучен?
Передо мной маячит пример Бродского – он первым вырвался из этой элитарной целокупности: не потому, что по натуре перебежчик, а в силу конституционной своей специфики. Спустя несколько лет за ним последую и я, но по иной причине: трудно критику судить-рядить о литературе, предполагая, что вся она сосредоточена на территориальном пятачке нашего арзамаса, а за его пределами хоть шаром покати, ничего нет, сплошная tеrrа incоgnitа. С некоторых пор меня начинает все больше раздражать, что мы замкнулись в своем кругу, читаем исключительно друг друга, волочимся за женами друг друга, а иногда так даже уводим их. Короче, варимся в собственном соку. Мы – это отечественная литература; кроме нас, никого в ней больше нет.
Позже я пойму, что наш кружок – не единственный, их множество, и каждый претендует на единственность и уникальность. Тот же ахматовский квартет, к примеру, который на поверку оказался скорее крыловским. А ведь писал один из этой четверки, Бобышев:
…в череду утрат
Заходят Ося, Толя, Женя, Дима
Ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядят
Четыре стихотворца-побратима.
Их дружба, как и жизнь, необратима.
Как оказалось, обратима, и пути Бродского, Наймана, Рейна и Бобышева разошлись и творчески, и человечески, и географически. Судьба их раскидала кого куда, никогда им уже всем вместе не встретиться, каждый для другого – утрата. Что естественно – литературные связи хороши в начальную пору, потом они превращаются в мафии, а входящие в них обречены на творческую инфантильность и литературный меркантилизм. «Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв», – напишет один из этого ахматовско-крыловского квартета, Бродский. После распада их «вечного» союза каждый был наконец предоставлен самому себе…
Наш союз возник позже – ему еще есть время существовать, пусть мнимо, но «храня движенья вид». Поневоле, чтобы зарабатывать деньги, мне, критику, приходится читать больше, чем моим однопартийцам. Круг моих читательских и профессиональных интересов все более расширяется и отдаляется от их (или еще нашего?) круга. Что делать? Я уговариваю их заглянуть в рассказы Искандера и Аксенова, в статьи Аверинцева, в пьесы Вампилова, в роман Домбровского и повести Венедикта Ерофеева и Василия Белова – напрасно: как в старой оперетте, с незнакомыми они не знакомятся. Они читают самих себя – из сосуда в сосуд, из сосуда в сосуд, у них установились прочные критерии и незыблемые авторитеты – за счет истинных критериев и авторитетов, которые попраны и преданы забвению.
Мы – это кремль, крепость, цитадель, центр вселенной. К высоким и неприступным нашим стенам примыкает посад – посадские не допущены до нас, но находятся под нашей влиятельной защитой, и следующий ряд фортификационных сооружений обороняет и нас, и их.
Я нарушаю средневековый этот этикет и, хоть больше всего раздражаюсь на своих, решаюсь поначалу напасть на посадских. Избираю легкую мишень – и целиться особо не надо, и доказывать свою правоту постфактум не придется – рецензия написана и опубликована. Я слышу шепот за спиной, догадываюсь о нем, но ни один из моих дружков-приятелей вслух о рецензии не заговаривает, и заготовленный превентивно ответ так и пропадает втуне, чтобы вынырнуть из памяти только на этой странице:
– Я не из вашего детского сада…
Что самое опасное в таких замкнутых сообществах? Круговая порука, дружеская опека, дух аллилуйщины, комплиментарная зависимость друг от друга, а главное – отсутствие притока свежего воздуха. Вроде бы все мы яростные сторонники демократии и свободы, но внутри нашего арзамаса царят тоталитарные принципы, а диктатура умных людей ничуть не легче диктатуры идиотов.
Мы давно уже надоели друг другу и втайне друг другу завидуем – тот получил квартиру, а этот еще нет; у того вот-вот выходит книжка, а у этого отложили – да мало ли! Зависть, недоброжелательство, злоба – за фасадом тесной дружбы и взаимной любви.