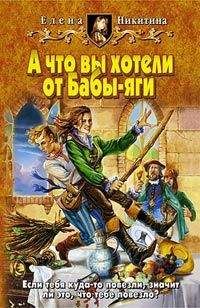Елена Крюкова - Зимний Собор
– Поранил ноги Я об лед, но говорю Я вам:
Никто на свете не умрет, коль верит в это сам.
О, дайте водки Мне глоток, брусникой закусить
Моченой!.. Омуля кусок – и нечего просить.
Согреюсь, на сетях усну. Горячий сон сойдет.
И по волнам Свой вспомяну непобедимый ход.
Так на Вселенском холоду, в виду угрюмых скал,
Я твердо верил, что пройду, и шел, и ликовал!
И кедр, как бы митрополит сверкающий, гудел!..
И рек Андрей: – Спаситель спит.
О, тише, тише… Пусть поспит…
Он сделал, что хотел.
МОСТ НЕФ. ЭТЮД
Той зеленой воде с серебристым подбоем
Не плескаться уже никогда
Возле ног, отягченных походом и боем,
Где сошлись со звездою звезда.
По-французски, качаясь, курлыкают птицы
На болотистом масле волны…
Вам Россия – как фляга, из коей напиться
Лишь глотком – в дымных копях войны.
Я – в Париже?! Я руки разброшу из тела,
Кину к небу, как хлеба куски:
Где вы, русские?.. Сладко пила я и ела,
Не познав этой смертной тоски –
Пятки штопать за грош, по урокам шататься,
Драить лестницы Консьержери
И за всех супостатов, за всех святотатцев
В храме выстоять ночь – до зари…
О вы, души живые! Тела ваши птичьи
Ссохлись в пыль в Женевьев-де-Буа.
В запределье, в надмирных снегах, в заресничье
Ваша кровь на скрижалях жива.
И, не зная, как сода уродует руки,
Где петроглифы боли сочту,
Имена ваши носят парижские внуки:
Свет от них золотой – за версту.
О, Петры все, Елены и все Алексеи,
Все Владимиры нищих дорог!
Я одна вам несу оголтелой Расеи
В незабудках, терновый, венок.
А с небес запустелых все та ж смотрит в Сену
Белощекая баба-Луна,
Мелочь рыбную звезд рассыпая с колена,
С колокольного звона пьяна.
ПОКУПКА ТКАНИ НА РАБОЧУЮ РОБУ И ПОШИВ ЕЯ
Ты отмерь мне ткани… да не той, поплоше!
Чтобы ту рубаху отодрали с кожей.
Эх, сельмаг заштатный, прилавок дубовый!
Дверь раскрыта настежь, снег летит половой:
В синий глаз Байкала небо звезды мечет –
То ли стрелы свищут, то ль дымятся свечи?..
В срубовой столовке – водка да брусника.
Продавец холстины! Мне в глаза взгляни-ка:
Не для ушлой моды, не в прельщенье тая –
Я для целой жизни робу покупаю!
Все здесь уместится: свадебное платье –
Порву на пеленки, коль буду рожать я!.. –
Та ли затрапезка, в коей режу сало,
Тот ли свет небесный – погребальный саван…
Бабе дайте волю – жизнюшку проходит
В ливнях да в метелях, при любой погоде –
Все в одной да той же стираной холстине,
Все молясь трудами об Отце и Сыне…
Так отмерь мне ткани, ты, чалдон усатый!
Может, в той тряпице буду я – распятой.
Может, что содею, неугодно Богу,
Крест на плечи взложат, повлекут в дорогу?!
И пойду я в этом рубище истлевшем
Пахотами, снегом, полем ошалевшим,
Рыжею тайгою – мокрою лисою,
Заберегом-яшмой, кварцевой косою,
Мохнатым отрогом, ножами-хребтами,
Что стесали сердце, высекая пламя,
Горбами увалов, грязями оврагов,
Зеркалом Байкала в славе звездных стягов,
По Мунку-Сардыку, по Хамардабану,
Вдоль по рыбам-рельсам, по мерзлотам пьяным!
И на всех разъездах, да на станционных
Водочных буфетах, на стогнах каленых,
Там, где рыщут танки, там, где жгут кострища,
На чугунных вечах, на злых пепелищах –
Как народ сбежится, на меня глазея,
Пальцами затычут в меня ротозеи,
Матери младенцев поднимут повыше –
Это Лунный Холод в затылок задышит! –
Я ж – сбивая ноги – дальше, выше, мимо,
Мимо всех объятий, мимо всех любимых,
Не тылом ладонным утирая слезы –
Северным Сияньем, запястьем мороза!
Замычат коровы, заклекочут куры,
Пацанье освищет холщовую дуру,
А на Крест, спорхнувши, сядет с неба птичка,
А мой лоб украсит снеговая кичка!..
И когда дойду я до своей Голгофы –
В слезах не упомню лика дорогого,
Опущу Крест наземь, и меня растащат –
Щиколки-лодыжки!.. из ступней пропащих,
Пятерней дрожащих, из-под ребер тощих –
Кровь моя живая бьется и полощет!..
Эту ржавь по шляпку в плоть мою вогнали?! –
Нет! не гвозди – реки в алмаз-одеяле!
Чехонями – рельсы! Нимбы – над церквами!
Да костров рыбацких на излуках – пламя!
И лечу, раскинув кровавые руки,
Пронзена землею нестяжальной муки,
В той седой холстине, что я покупала
В мышином сельмаге на бреге Байкала,
Да и сарма крутит горевую робу,
Да и сыплет Космос волглые сугробы,
Да и плачут люди по распятой дуре,
Да Господь над нею звездным дымом курит,
Да брусника – щедро – с ладоней – на платье,
Да рот – в холод:
люди… что хочу… сказать я…
СЫН. ДИПТИХ
Левый складеньПравый складень
Ноги маленькой церквушки Об одном молиться буду
Моют ясные ручьи. И в жару, и в холода:
На горячечной подушке – “Смертны все… Яви же чудо –
Щеки жаркие мои. Пусть он будет жить всегда!”
Я рожаю. Неужели Но над миром трубы грянут.
Святки, сани, Страшный Суд, Про войну приснится сон.
Колыбели и купели – И в глаза мои заглянут
Все вот в ЭТОМУ ведут?! Очи сорванных икон.
Раздерут парчовый полог Тот комочек вечной плоти,
Руки толстых повитух: Что когда-то жил во мне –
– Ох, царица, день недолог – В чистом поле, в конском поте
– Примем, примем сразу двух! Умирает на войне.
Заволокнут слепотою, Кинутся ко мне: – Царица!..
Как окошком слюдяным, Волю бабьим воплям дам.
Белый свет. И надо мною – И на площадях Столицы
Из кадила – белый дым. Много золота раздам.
Что, никак уж отпевают?!.. И руками, как окладом,
Медь оклада жжет губу… Закрывая черный лик,
Больно – я еще живая! Вдруг услышу где-то рядом
В простынях, а не в гробу! Колыбельный
Резкий
Глаз смолою застывает. Крик.
Яблоком – в росинках – лоб.
Нарастает, опадает
Тела бешеный сугроб
Не хочу уже ни счастья,
Ни наследья, ни венца –
Умереть бы в одночасье,
Чтоб не видели лица!
И в последней смертной муке,
Бабе данной на роду,
Простыню отжали руки,
Как крестьянка на пруду!
И скользнула жизни рыбка
Из глубин моих морей!
И взошла моя улыбка,
Как у Божьих Матерей!
– Покажите мне, – хриплю я.
Повитухи машут: – Кыш,
Дочку краше намалюешь,
Как по маслу, породишь!..
Но и сын твой тож прекрасный!..
А тебе не все ль равно?.. –
Был царевич темно-красный,
Как заморское вино.
И заморский важный лекарь,
Как на плахе, весь дрожит,
Над рожденным Человеком
Старым Богом ворожит.
КУРБЭ: АТЕЛЬЕ ХУДОЖНИКА
Я собаку ощерившуюся пишу:
Вон язык ее до полу виснет.
Я кистями и красками судьбы вершу:
Вот крестины, а вот уже – выстрел.
Вот у края могилы глазетовый гроб,
И священник, одышлив, весь в белом,
Вырастает над осенью, зимний сугроб,
Отпевает погасшее тело.
Как на грех, снова голоден… Кость бы погрызть,
Похлебать суп гороховый – с луком…
Я брюхатую бабу пишу: не корысть!
И про деньги – ни словом, ни звуком…
Птицы горстью фасоли ударят в меня,
В старый бубен, седой, животастый.
Вон мальчишка в толпе – он безумней огня,
Он кудлатый, беззубый, глазастый.
И его я пишу. И его я схватил!
Я – волчара! Я всех пожираю…
Закогтил… – кисти вытер… – свалился без сил
В слепоту у подножия Рая…
Признаю: третий день я небрит. Третий день
Я не пил молока, – заключенный…
Третий день мое красками сердце горит.
Сумасшедший, навек зараженный
Хромосомой, бациллою, водкой цветной,
Красным, синим, зеленым кагором.
Я пишу тяжкий кашель старухи больной.
Я пишу: поют ангелы хором.
Я пишу пьяниц двух, стариков, под мостом.
Там их дом, под мостом. Там их радость.
Там они заговляются перед постом
Пирогом, чья отчаянна сладость.
Там, где балки сырые, быки, где песок
Пахнет стерлядью, где мох и плесень,
Они смотрят на дыры дырявых сапог
И поют красоту старых песен.
Я пишу их; а чем они платят? – они
Платят мне золотыми слезами…
Скинь, служанка, одежду. Мы в мире одни.
Не стреляй, не танцуй ты глазами.
Дура ты. Для какой тебя цели раздел?
Стань сюда, под ребрастую крышу.
Твое тело – сверкающей ночи предел.
Та звезда, что над миром – не дышит.
Ты прижми к животу ком тугого тряпья,
Эти грязные фартуки, юбки.
Так и стой, не дыши. Вот, пишу тебя – я.
Стой, не дрыгайся, ласка, голубка.
Жемчуг старый на шее и между грудей.
Он поддельный. Куплю – настоящий.
Ты теперь будешь жить средь богов и людей,
Чиж, тарашка, заморыш ледащий.
Эх, гляди!.. – за тобою толпится бабье,
Губы – грубы да юбки – крахмальны;
Руки красны – тащили с морозу белье;
А глаза их коровьи печальны…
А за бабами – плечи, носы мужиков,
Лбы да лысины – в ссадинах, шрамах, –
Как их всех умещу – баб, детей, стариков!.. –
В злую, черного дерева, раму?!..
В эту раму злаченую, в раму мою, –
Я сработал, я сам ее срезал!.. –
Всю земную, заклятую Смертью семью:
Род, исшедший из царственных чресел
Той Царицы безносой, что всех нас пожрет, –
Той, скелетной, в парче толстой вьюги,
Во метели негнущейся… – весь наш народ,
Всю любовь одичалой округи?!
И расступятся властно озера, леса!
И разымутся передо мною
Лица, руки, колени, глаза, голоса, –
Все, что жизнью зовется земною!
И я с кистью корявой восстану над ним,
Над возлюбленным миром, зовущим, –
Вот и масло, и холст превращаются в дым,
В чад и дым, под Луною плывущий…
И в дыму я удилищем кисти ловлю
Рыб: щека… вот рука… вот объятье… –
Вот мой цвет, что так жадно, посмертно люблю:
Твое красное, до полу, платье…
И, ослепнув от бархатов, кож и рогож,
Пряча слезы в небритой щетине,
Вижу сердцем: а Бог – на меня Ты похож?.. –
Здесь, где голо и пусто, где звезды как нож,
Где под снегом в полях – помертвелая рожь, –
На ветрами продутой Картине.
ФРЕСКА ШЕСТАЯ. ВЕТЕР В ГРУДЬ
НОРД-ОСТ
В этой гиблой земле, что подобна костру,
Разворошенному кочергою,
Я стою на тугом, на железном ветру,
Обнимающем Время нагое.
Ну же, здравствуй, рубаха наш парень Норд-Ост,
Наш трудяга, замотанный в доску,
Наш огонь, что глядит на поветь и погост
Аввакумом из хриплой повозки!
Наши лики ты жесткой клешнею цеплял,
Мономаховы шапки срывая.
Ты пешней ударял во дворец и в централ,
Дул пургой на излом каравая!
Нашу землю ты хладною дланью крестил.
Бинтовал все границы сквозные.
Ты вершины рубил.
Ты под корень косил!
Вот и выросли дети стальные.
Вот они – ферросплавы, титан и чугун,
Вот – торчащие ржавые колья…
Зри, Норд-Ост! Уж ни Сирин нам, ни Гамаюн
Не споют над любовью и болью –
Только ты, смертоносный, с прищуром, Восток,
Ты пируешь на сгибших равнинах –
Царь костлявый, в посту и молитве жесток,
Царь, копье направляющий в сына,
Царь мой, Ветер Барачный, бедняк и батрак,
Лучезарные бэры несущий
На крылах! и рентгенами плавящий мрак!
И сосцы той волчицы сосущий,
Что не Ромула-Рема – голодных бичей
Из подземок на площади скинет…
Вой, Норд-Ост! Вой, наш Ветер – сиротский, ничей:
Это племя в безвестии сгинет!
Это племя себе уже мылит петлю,
Этот вихрь приговор завывает, –
Ветер, это конец! Но тебя я – люблю,
Ибо я лишь тобою – живая!
Что видала я в мире? Да лихость одну.
А свободу – в кредит и в рассрочку.
И кудлатую шубу навстречь распахну.
И рвану кружевную сорочку.
И, нагая, стою на разбойном ветру,
На поющем секиру и славу, –
Я стою и не верю, что завтра умру –
Ведь Норд-Ост меня любит, шалаву!
Не спущусь я в бетонную вашу нору.
Не забьюсь за алтарное злато.
До конца, до венца – на юру, на ветру,
Им поята,
На нем и распята.
МАТЬ
Любила, лупила, рожала, хлестала, – устала…
Червем и золою, древком и метлою!.. – устала…
Сжав зубы подковой, по насту Голгофы!.. – устала…
Изюм-сохлый – груди. Карась-дохлый – люди. Устала.
Ребенка – в охапку да денежки – в шапку. Не дышим.
Под снегом – громады. Все в дырьях – наряды. Век вышел.
Весь – вышел:
безумный, патлатый, тверезый, поддатый, – чудесный…
Я в нем умирала. Меня бинтовали над бездной.
Дитя вынимали. Ребро прожигали. Ремнями – вязали.
По стеклам – ступнями!.. По углям – стопами!.. Зачем?!.. – не сказали.
И вот я, патлата, с дитем, опьяненным Столицей,
В кабак, буерак, меж дворцов прибегаю – напиться.
Залить пустоту, что пылает, черна и горюча.
В широкие двери вплываю угрюмою тучей.
На стол, весь заплеванный, мощный кулак водружаю.
Седая, живот мой огрузлый, – я Время рожаю.
Дитя грудь пустую сосет. Пяткой бьет меня в ребра.
На рюмки, как будто на звезды, я щурюсь недобро.
За кучу бумажных ошметок мне горе приносят.
Огромная лампа горит, как на пытке, допросе.
О век мой, кровав. Воблой сгрызла тебя. Весь ты кончен.
Всю высосу кость и соленый хребет, ураганом источен.
И пью я и пью, пьет меня мой младенец покуда.
Я старая мать, я в щеку себя бью, я не верую в чудо.
Я знаю, что жить мне осталось негусто, мой Боже:
Стакан опрокину – и огненный пот выступает на коже.
Узор ледяной. Вон, на окнах такой на кабацких.
Узор кровяной. Иероглифы распрей бедняцких.
Военная клинопись. Страшные символы-знаки.
Их все прочитают: на рынке, на площади, в трюме, в бараке.
Наверно больна. И дитенок мой болен. Эй, водки, скорее!
По смерти прочтут. По складам. И от слез одуреют.
Прочтут, как сидела – до тьмы – в ресторанишке грязном, дешевом,
Над хлебом нагнувшись, над шпротой златою, парчовой;
Как век мой любила, на рынке его продавала,
Как кашу в кастрюле, завертывала его в одеяло;
Как мир целовала, как ноги пред ним раздвигала,
Как тельце последыша в тряпки любви пеленала;
Как, пьяная, скатерть ногтями цепляя, молилась за свечи,
Что светят во вьюге живущим и сгибшим – далече, далече;
И как, зарыдав, я на стол, залит водкою, грудью упала…
Бежала. Рожала. Свистела. Плясала. Бесилась. Молилась!
…Устала.
Да только дитя как заплачет. В сосок как иссохший вопьется!
Ах, больно. Ах, томно. Еще там живое, под левою грудью.
Там бьется.
ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ПАРИЖЕ
Это две птицы, птицы-синицы,
Ягоды жадно клюют…
Снега оседает на влажных ресницах.
Инея резкий салют.
Рядом – чугунная сеть Сен-Лазара:
Плачут по нас поезда.
В кремах мазутных пирожное – даром:
Сладость, слеза, соль, слюда.
Грохоты грузных обвалов столетья.
Войнам, как фрескам, конец:
Все – осыпаются!
…Белою плетью
Жги, наш Небесный Отец,
Нас, горстку русских на паперти сирой:
Звездным скопленьем дрожа,
Всяк удержал, в виду грозного Мiра,
Лезвие злого ножа
Голой рукою! А шлем свой кровавый
Скинуло Время-Палач –
Русские скулы да слезная лава,
Лоб весь изморщен – хоть плачь…
Сколь вас молилось в приделах багряных,
Не упомянешь числом.
Храма горячего рваные раны
Стянуты горьким стеклом.
Где ты, Расея моя, Мангазея?!
Радость, голубка моя!
Только воспомни, рыдая, косея,
Жемчуг былого житья…
Крашеным красным яйцом на ладони
Пасха, как сердце, горит!
Рыжие, зимние, дымные кони…
Плачет гитара навзрыд…
Крошево птиц – в рукаве синя-неба…
Семечки в грубых мешках!
Хлеб куполов! Мы пекли эти хлебы.
Мы – как детей – на руках
Их пронесли!
А изящный сей город
То нам – германский клинок,
То – дождь Ла-Манша посыплет за ворот:
Сорван погон, белый китель распорот,
Господи, – всяк одинок!
Ах, витражи глаз лучистых и узких,
Щек молодых витражи –
Руки в морщинах, да булок французских
На – с голодухи! – держи!
Встаньте во фрунт. Кружевная столица,
Ты по-французски молчи.
Нежною радугой русские лица
Светятся в галльской ночи.
В ультрамарине, в сиене и в саже,
В копоти топок, в аду
Песьих поденок, в метельном плюмаже,
Лунного Храма в виду!
Всех обниму я слепыми глазами.
Всем – на полночном ветру –
Вымою ноги нагие – слезами,
Платом пурги оботру.
ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА
Пока ты зеваешь, соля щепотью рот,
Пока слепнями на снегу жужжит народ,
Пока на помидорину Солнца жмуришься,
Кобыла, дура, дурища, дурища,
Пока безрукий водовоз свистит в свисток,
Пока тощий пес глядит себе промеж ног,
Пока грохочут булыжники-облака,
Пока держит револьвер у виска
Девчонка в мерлушке – играет, поди,
В рулетку!.. – на ней жемчугами – дожди,
На ней чернью-сканью снега висят,
У ней, как у зайца, глаза косят;
Пока… – над картошкой – пар-малахай… –
И закричу: не стреляй!.. –
не стреляй!.. – не-стре-…
…ляй!..
…и она выстрелит – и я картошку схвачу
В голые кулаки,
как желтую свечу,
Стащу у торговки с мышиного лотка, –
Принцесса, не промазала нежная рука!
Вы все прозевали
Царство, Год и Час.
С мякиной прожевали
великих нас.
Вы скалили нам
саблезубую пасть.
Вот только лишь картошку
разрешили украсть –
Горячую лаву: сверху перец и лук,
И серп и молот, и красный круг,
И масло и грибочки… – торговка – визжи!
Вон, по снегу рассыпаны монеты и ножи!
Вон, рынок бежит, весь рынок визжит!
А вон на снегу синем девочка лежит –
В шапке мерлушковой, в мочке – жемчуга,
Балетно подвернута в сапожке нога…
И я над ней – голодная – кол в рот вам всем –
Стою в клубах мороза, из горсти картошку ем!
Мы обе украли: она – судьбу, я – еду.
Украсьте нас орехами на пьяном холоду!
Венчайте нас на Царство, шелупонь-лузга-казань:
Царевну-лебедь-мертвую, княжну-голодрань!
Стреляют… хлещут… свищут…
идут нас вязать…
Вареною картошкой…
мне пальцы… унизать…
О клубеньки-топазы…
о перец-изумруд…
Кровь на снегу… все в шапочках… мерлушковых… помрут…
И тот, кто ломал мне руки, бил, не жалея сил,
Носком сапога на красный снег
картошку закатил.
ВОСКРЕШЕНИЕ. ПЛОЩАДЬ
Я тебя воскрешу.
Я тебя воскрешу.
Ты мальчонка убитый.
А я не дышу.
Тебя сверстники били. Прикончили вмиг.
Ты уже никогда – ни мужик, ни старик.
Ты уже никогда – в крике первой любви…
Напрягаю я страшные мышцы. Живи.
Напрягаю я Дух, собираю в кулак,
Поднимаю кулак над тобою, как стяг.
Над измызганным тельцем, где кровь на крови,
На снегу площадном… Возглашаю: живи.
Заклинаю: живи!
Заповедаю: встань!
…Перекручена красной повязкой гортань.
А мальчонка валяется, будто бежал
И упал. Завывает народ, как шакал.
К небу пьяную морду воздев, воет мать.
Шепчут старцы, старухи: нам всем умирать.
Только мальчик вот этот!.. Один, меж людьми…
Всех отпой, отповедай. Его – подними.
И я пальцы к нему врастопырку тяну!
И кричу: ну, вставай!.. Оживай!.. быстро, ну!..
И я вижу, как тело в сугробе сидит.
И я вижу, как глаз одичало глядит.
И встает он, весь белый, с разбитой губой,
С головой раскроенной, от боли – слепой,
Мальчик, в драке убитый, в миру воскрешен –
И, шатаясь, ко мне тяжко ломится он
Через бедный, густой, тяжкий воздух земной…
Я его обнимаю. Сынок мой. Родной.
***
На меня Чайковский
Глядел из тьмы во тьму.
– Плохо мне, Чайковский, –
Сказала я ему.
Плохо тебе тоже, медный,
Бронзовый твердак…
С горя закатилась в бедный,
В бронзовый кабак.
Это была рюмочная.
Для погибших – думочная.
И один беззубый, тощий,
Мятый как сапог,
Кинул мне навстречу мощи,
Кинул говорок.
Не гранитная-святая
И не бронза-медь –
Я была ему живая,
Близкая, как смерть.
РУССКАЯ РУЛЕТКА
Пули – бусы!
Пули – серьги!
Брюшки – что креветки!..
Яркой я зимой играю в русскую рулетку.
Револьвер такой тяжелый… ах, по мне поминки?!..
Я стою средь мерзлой снеди на Иркутском рынке.
Пули – клячи!..
Пули – дуры!..
Револьвер – в охапку.
Пот течет по скулам дядьки с-под бараньей шапки.
Револьвер – такое дело. Я стреляю метко.
Что ж ладонь вспотела солью, русская рулетка?!..
Стынет глаз бурятки медом. Стынут глыбы сливок.
Стынет в царских ведрах омуль. Кажет ель загривок.
Янтарями – облепиха!
Кровью – помидоры!
Ах, оружье, ласка, лихо русского задора!
Гомонят подтало бабы, щелкая орешки.
Я для публики – монетка: орел или решка?..
Жму костями плоть железа. Руку тянет холод.
“Ну, стреляй!..” – вопят мальчишки. Крик стучит как молот!
И, к виску подбросив руку, пред вратами Рая
Я на вечную разлуку так курок спускаю,
Как целую зиму в губы! В яблоко вгрызаюсь!
Как – из бани – в снег – нагая – Солнцем умываюсь!
Жизнь ли, смерть – мне все едино!.. Молода, безумка!..
Упаду на снег родимый – ракушкой-беззубкой…
Это – выстрел?!..
Я – живая?!..
Дайте омуль-рыбу!..
Дайте откусить от сливок, от округлой глыбы!..
Дайте, бабы, облепихи, – ягодой забью я
Рот!..
Как звонко. Страшно. Тихо.
Шепот: “Молодую…”
На снегу лежу искристом, молнией слепящем.
Умерла я, молодая, смертью настоящей.
Из виска текут потоки. Чистый снег пятнают.
Револьвер лежит жестокий. Настоящий, знаю.
А душа моя, под небом в плаче сотрясаясь,
Видит все, летит воздушно, чуть крылом касаясь
Тела мертвого и раны, баб с мешком орехов,
Мужиков, от горя пьяных – в ватнике прореха,
С запахом машинных масел пьяного шофера,
С запахом лисы и волка пьяного Простора… –
Вот так девка поигралась! Вот так угостилась!..
Наклонитесь над ней, жалость, радость, юность, милость…
Наклонись, дедок с сушеной рыбкой-чебаками:
На твою похожа внучку – волосом, руками…
Гомон! Визг вонзают в небо! Голосят, кликуши!
Я играла с револьвером – а попала в душу.
И кто все это содеял, весь дрожит и плачет,
На руки меня хватает во бреду горячем,
Рвет шубейку, в грудь целует, – а ему на руки
Сыплются с небес рубины несказанной муки;
Градом сыплются – брусника, Боже, облепиха –
На снега мои родные, на родное лихо,
Да на револьвер тяжелый, на слепое дуло,
Что с улыбкою веселой я к виску тянула.
Это смерть моя выходит, буйной кровью бьется,
Это жизнь моя – в народе – кровью остается.
ФРЕСКА СЕДЬМАЯ. ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ
ПРОСКОМИДИЯ
Снега на улице покаты. И ночь чугунно тяжела.
Что ж, настает мой час расплаты – за то, что в этот мир пришла.
Горит в ночи тяжелый купол на белом выгибе холма.
Сей мир страданием искуплен. Поймешь сполна – сойдешь с ума.
Под веток выхлесты тугие, под визг метели во хмелю
Я затеваю Литургию не потому, что храм люблю.
Не потому, что Бог для русской – всей жизни стоголосый хор,
А потому, что слишком узкий короткий темный коридор,
Где вечно – лампа вполнакала, соседок хохот и грызня –
Так жизни мало, слишком мало, чтоб жертвовать куском огня.
Перед огнем мы все нагие – фонарный иль алтарный он…
Я подготовлюсь к Литургии моих жестоких, злых времен.
Моих подземных переходов. Моих газетных наглых врак.
И голых детдомов, где годы детей – погружены во мрак.
Моих колымских и алданских, тех лагерей, которых — нет?!
И бесконечных войн гражданских, идущих скоро — сотню лет.
Я подготовлюсь. Я очищусь. Я жестко лоб перекрещу.
Пойду на службу малой нищей, доверясь вьюжному плащу.
Земля январская горбата. Сковала стужа нашу грязь.
Пойду на службу, как солдаты шли в бой, тайком перекрестясь…
И перед музыкой лучистой, освободясь от вечной лжи,
Такой пребуду в мире чистой, что выслушать – не откажи!
И, может быть, я, Божье слово неся под шубой на ветру,
Его перетолкуя, снова за человечью жизнь помру.
И посчитаю это чудом – что выхрип, выкрик слышен мой,
Пока великая остуда не обвязала пеленой.
***
Я пойду по улице хрусткой.
Будут ноги мои жечь алмазы.
Я пойду в мехах, в шубе русской.
Краской черного подмазанного глаза
Возмущу банные прилизанные лица!
А я гордая, спокойная ныне.
Довелось мне в вере укрепиться –
В людском море, в человечьей пустыне.
Подойду к своей белой церкви
С купоросно синими куполами.
Ты, кто лаял на нее, цепной цербер!
Неужели ты так быстро – с нами?!
– Ни за что тебе не поверю.