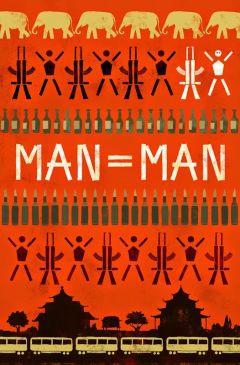Джордж Гордон Байрон - Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан
{93}
Ты видишь трупы женщин и детей
И дым над городами и полями?
Кинжала нет — дубиной, ломом бей,
Пора кончать с незваными гостями!
На свалке место им, в помойной яме!
Псам кинуть труп — и то велик почет!
Засыпь поля их смрадными костями
И тлеть оставь — пусть внук по ним прочтет,
Как защищал свое достоинство народ!
Еще не пробил час, но вновь войска
Идут сквозь пиренейские проходы{94}.
Конца никто не ведает пока,
Но ждут порабощенные народы,
Добьется ли Испания свободы,
Чтобы за ней воспряло больше стран,
Чем раздавил Писарро{95}. Мчатся годы!
Потомкам Кито{96} мир в довольстве дан,
А над Испанией свирепствует тиран.
Ни Сарагоссы кровь, ни Альбуера,
Ни горы жертв, ни плач твоих сирот,
Ни мужество, какому нет примера, —
Ничто испанский не спасло народ.
Доколе червю грызть оливы плод?
Когда забудут бранный труд герои?
Когда последний страшный день уйдет,
И на земле, где галл погряз в разбое,
Привьется Дерево Свободы, как родное?
{97}
А ты, мой друг! — но тщетно сердца стон
Врывается в строфу повествованья.
Когда б ты был мечом врага сражен,
Гордясь тобой, сдержал бы друг рыданья.
Но пасть бесславно, жертвой врачеванья,
Оставить память лишь в груди певца,
Привыкшей к одиночеству страданья,
Меж тем как Слава труса чтит, глупца, —
Нет, ты не заслужил подобного конца!
Всех раньше узнан, больше всех любим,
Сберегшему так мало дорогого
Сумел ты стать навеки дорогим.
«Не жди его!» — мне явь твердит сурово.
Зато во сне ты мой! Но утром снова
Душа к одру печальному летит,
О прошлом плачет и уйти готова
В тот мир, что тень скитальца приютит,
Где друг оплаканный о плачущем грустит.
Вот странствий Чайльда первая страница.
Кто пожелает больше знать о нем,
Пусть следовать за мною потрудится,
Пока есть рифмы в словаре моем.
Бранить меня успеете потом.
Ты, критик мой, сдержи порыв досады!
Прочти, что видел он в краю другом,
Там, где заморских варваров отряды
Бесстыдно грабили наследие Эллады{98}.
Песнь вторая
Пою тебя, небесная, хоть к нам,
Поэтам бедным, ты неблагосклонна.
Здесь был, богиня мудрости{99}, твой храм.
Над Грецией прошли врагов знамена.{100}
Огонь и сталь ее терзали лоно,
Бесчестило владычество людей,
Не знавших милосердья и закона
И равнодушных к красоте твоей.
Но жив твой вечный дух средь пепла и камней.
Увы, Афина, нет твоей державы!
Как в шуме жизни промелькнувший сон,
Они ушли, мужи высокой славы,
Те первые, кому среди племен
Венец бессмертья миром присужден.
Где? Где они? За партой учат дети
Историю ушедших в тьму времен,
И это все! И на руины эти
Лишь отсвет падает сквозь даль тысячелетий.
О сын Востока, встань! Перед тобой
Племен гробница — не тревожь их праха.
Сменяются и боги чередой,
Всем нить прядет таинственная Пряха.
Был Зевс, пришло владычество Аллаха,
И до тех пор сменяться вновь богам,
Покуда смертный, отрешась от страха,
Не перестанет жечь им фимиам
И строить на песке пустой надежды храм.
Он, червь земной, чего он ищет в небе?
Довольно бы того, что он живет.
Но так он ценит свой случайный жребий,
Что силится загадывать вперед,
Готов за гробом кинуться в полет
Куда угодно, только б жить подоле,
Блаженство ль там или страданье ждет.
Взвесь этот прах! Тебе он скажет боле,
Чем все, что нам твердят о той, загробной доле.
Вот холм, где вождь усопший погребен,
Вдали от бурь, от песен и сражений, —
Он пал под плач поверженных племен.
А ныне что? Где слезы сожалений?
Нет часовых над ложем гордой тени,
Меж воинов не встать полубогам.
Вот череп — что ж? Для прошлых поколений
Не в нем ли был земного бога храм?
А ныне даже червь не приютится там.
В пробоинах и свод его, и стены,
Пустынны залы, выщерблен портал.
А был Тщеславья в нем чертог надменный,
Был Мысли храм, Души дворец блистал,
Бурлил Страстей неудержимый шквал,
Но все пожрал распада хаос дикий,
Пусты глазницы, желт немой оскал.
Какой святой, софист, мудрец великий
Вернет былую жизнь в ее сосуд безликий?
«Мы знаем только то, — сказал Сократ{101}, —
Что ничего не знаем». И, как дети,
Пред Неизбежным смертные дрожат.
У каждого своя печаль на свете,
И слабый мнит, что Зло нам ставит сети.
Нет, суть в тебе! Твоих усилий плод —
Судьба твоя. Покой обрящешь в Лете{102}.
Там новый пир пресыщенных не ждет.
Там, в лоне тишины, страстей неведом гнет.
Но если есть тот грустный мир теней,
Что нам мужи святые описали,
Хотя б его софист иль саддукей{103}
В безумье знаний ложных отрицали, —
Как было б чудно в элизийской дали{104},
Где место всем, кто освещал наш путь,
Услышать тех, кого мы не слыхали,
На тех, кого не видели, взглянуть,
К познавшим Истину восторженно примкнуть.
Ты, с кем ушли Любовь и Счастье в землю,
Мой жребий — жить, любить, но для чего?
Мы так срослись, еще твой голос внемлю,
И ты жива для сердца моего.
Ужель твое недвижно и мертво!
Живу одной надеждой сокровенной,
Что снова там услышу зов его.
Так будь, что будет! В этой жизни бренной
Мое блаженство — знать, что ты в стране блаженной.
Я сяду здесь, меж рухнувших колонн,
На белый цоколь. Здесь, о Вседержитель,
Сатурна сын{105}, здесь был твой гордый трон.
Но из обломков праздный посетитель
Не воссоздаст в уме твою обитель,
Никто развалин вздохом не почтит.
И, здешних мест нелюбопытный житель,
На камни мусульманин не глядит,
А проходящий грек поет или свистит.
Но кто же, кто к святилищу Афины
Последним руку жадную простер?
Кто расхищал бесценные руины,
Как самый злой и самый низкий вор?
Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!
Свободных в прошлом чтут сыны Свободы,
Но не почтил их сын шотландских гор{106}:
Он, переплыв бесчувственные воды,
В усердье варварском ломал колонны, своды.
Что пощадили время, турок, гот,
То нагло взято пиктом{107} современным.
Нет, холоднее скал английских тот,
Кто подошел с киркою к этим стенам,
Кто не проникся трепетом священным,
Увидев прах великой старины.
О, как страдали скованные пленом,
Деля богини скорбь, ее сыны,
Лишь видеть и молчать судьбой обречены!
Ужель признают, не краснея, бритты,
Что Альбион был рад слезам Афин,
Что Грецию, молившую защиты,
Разграбил полумира властелин{108}!
Страна свободы, страж морских пучин,
Не ты ль слыла заступницей Эллады!
И твой слуга, твой недостойный сын
Пришел, не зная к слабому пощады,
Отнять последнее сокровище Паллады!
Но ты, богиня, где же ты, чей взгляд
Пугал когда-то гота и вандала?
Где ты, Ахилл{109}, чья тень, осилив ад
И вырвавшись из вечного провала,
В глаза врагу грозою заблистала?
Ужель вождя не выпустил Плутон{110},
Чтоб мощь его пиратов обуздала?
Нет, праздный дух, бродил над Стиксом{111} он
И не прогнал воров, ломавших Парфенон.
Глух тот, кто прах священный не почтит
Слезами горя, словно прах любимой.
Слеп тот, кто меж обломков не грустит
О красоте, увы, невозвратимой!
О, если б гордо возгласить могли мы,
Что бережет святыни Альбион,
Что алтари его рукой хранимы.
Нет, все поправ, увозит силой он
Богов и зябких нимф под зимний небосклон.
Но где ж Гарольд остался? Не пора ли
Продолжить с ним его бесцельный путь?
Его и здесь друзья не провожали,
Не кинулась любимая на грудь,
Чтоб знал беглец, о ком ему вздохнуть.
Хоть красоты иноплеменной гений
И мог порой в нем сердце всколыхнуть,
Он скорбный край войны и преступлений
Покинул холодно, без слез, без сожалений.
Кто бороздил простор соленых вод,
Знаком с великолепною картиной:
Фрегат нарядный весело плывет,
Раскинув снасти тонкой паутиной.
Играет ветер в синеве пустынной,
Вскипают шумно волны за кормой.
Уходит берег. Стаей лебединой
Вдали белеет парусный конвой.
И солнца свет, и блеск пучины голубой!
Корабль подобен крепости плавучей.
Под сетью здесь — воинственный мирок.
Готовы пушки — ведь неверен случай!
Осиплый голос, боцмана свисток,
И вслед за этим дружный топот ног,
Кренятся мачты и скрипят канаты.
А вот гардемарин, еще щенок,
Но в деле — хват и, как моряк завзятый,
Бранится иль свистит, ведя свой дом крылатый.
Корабль надраен, как велит устав.
Вот лейтенант обходит борт сурово,
Лишь капитанский мостик миновав.
Где капитан — не место для другого.
Тот лишнего ни с кем не молвит слова
И с экипажем держит строгий тон.
Ведь дисциплина — армии основа.
Для славы и победы свой закон
Британцы рады чтить, хотя им в тягость он.
Вей, ветер, вей, наш парус надувая,
День меркнет, скоро солнце уж зайдет.
Так растянулась за день наша стая,
Хоть в дрейф ложись, пока не рассветет.
На флагмане уже спускают грот,
И, верно, остановимся мы вскоре,
А ведь ушли б на много миль вперед!
Вода подобна зеркалу. О горе —
Ленивой свиты ждать, когда такое море!
Встает луна. Какая ночь, мой бог!
Средь волн дрожит дорожка золотая.
В такую ночь один ваш страстный вздох,
И верит вам красотка молодая.
Неси ж на берег нас, судьба благая!
Но Арион{112} нашелся на борту
И так хватил по струнам, запевая,
Так лихо грянул в ночь и в темноту,
Что все пустились в пляс, как с милыми в порту.
Корабль идет меж берегов высоких.
Две части света смотрят с двух сторон{113}.
Там пышный край красавиц чернооких,
Здесь — черного Марокко нищий склон.
Испанский берег мягко освещен,
Видны холмы, под ними лес зубчатый,
А тот — гигантской тенью в небосклон
Вонзил свои береговые скаты,
Не озаренные косым лучом Гекаты{114}.
Ночь. Море спит. О, как в подобный час
Мы ждем любви, как верим, что любили,
Что друг далекий ждет и любит нас,
Хоть друга нет, хоть все о нас забыли.
Нет, лучше сон в безвременной могиле,
Чем юность без любимой, без друзей!
А если сердце мы похоронили,
Тогда на что и жизнь, что толку в ней?
Кто может возвратить блаженство детских дней!
Глядишь за борт, следишь, как в глуби водной
Дианы рог{115} мерцающий плывет,
И сны забыты гордости бесплодной,
И в памяти встает за годом год,
И сердце в каждом что-нибудь найдет,
Что было жизни для тебя дороже.
И ты грустишь, и боль в душе растет,
Глухая боль… Что тягостней, о боже,
Чем годы вспоминать, когда ты был моложе!
Лежать у волн, сидеть на крутизне,
Уйти в безбрежность, в дикие просторы,
Где жизнь вольна в беспечной тишине,
Куда ничьи не проникали взоры;
По козьим тропкам забираться в горы,
Где грозен шум летящих в бездну вод,
Подслушивать стихий мятежных споры, —
Нет, одиноким быть не может тот,
Чей дух с природою один язык найдет.
Зато в толпе, в веселье света мнимом,
В тревогах, смутах, шуме суеты,
Идти сквозь жизнь усталым пилигримом,
Среди богатств и жалкой нищеты,
Где нелюбим и где не любишь ты,
Где многие клянутся в дружбе ныне
И льстят тебе, хоть, право, их черты
Не омрачатся при твоей кончине —
Вот одиночество, вот жизнь в глухой пустыне!
Насколько же счастливее монах,
Глядящий из обители Афона{116}
На пик его в прозрачных небесах,
На зелень рощ, на зыбь морского лона,
На все, чем, озираясь умиленно,
Любуется усталый пилигрим,
Не в силах от чужого небосклона
Уйти к холодным берегам родным,
Где ненавидит всех и всеми нелюбим.
Но между тем мы долгий путь прошли,
И зыбкий след наш поглотили воды,
Мы шквал, и шторм, и штиль перенесли,
И солнечные дни, и непогоды —
Все, что несут удачи и невзгоды
Жильцам морских крылатых крепостей,
Невольникам изменчивой природы, —
Все позади, и вот, среди зыбей —
Ура! Ура! — земля! Ну, други, веселей!
Правь к островам Калипсо{117}, мореход,
Они зовут усталого к покою,
Как братья встав среди бескрайных вод.
И нимфа слез уже не льет рекою,
Простив обиду смертному{118} герою,
Что предпочел возлюбленной жену.
А вон скала, где дружеской рукою
Столкнул питомца Ментор{119} в глубину,
Оставив о двоих рыдать ее одну.
Но что же царство нимф — забытый сон?
Нет, не грусти, мой юный друг, вздыхая.
Опасный трон — в руках у смертных жен,
И если бы, о Флоренс{120} дорогая,
Могла любить душа, для чувств глухая,
Сама судьба потворствовала б нам.
Но, враг цепей, все узы отвергая,
Я жертв пустых не принесу в твой храм,
И боль напрасную тебе узнать не дам.
Гарольд считал, что взор прекрасных глаз
В нем вызывает только восхищенье,
И, потеряв его уже не раз,
Любовь теперь держалась в отдаленье,
Поняв в своем недавнем пораженье,
Что сердце Чайльда для нее мертво,
Что, презирая чувства ослепленье,
Он у любви не просит ничего
И ей уже не быть царицей для него.
Зато прекрасной Флоренс было странно:
Как тот, о ком шептали здесь и там,
Что он готов влюбляться непрестанно,
Так равнодушен был к ее глазам.
Да, взор ее, к досаде многих дам,
Сражал мужчин, целил и ранил метко,
А он — юнец! — мальчишка по годам,
И не просил того, за что кокетка
Нередко хмурится, но гневается редко.
Она не знала, что и Чайльд любил,
Что в равнодушье. он искал защиты,
Что подавлял он чувств невольный пыл
И гордостью порывы их убиты,
Что не было опасней волокиты
И в сеть соблазна многих он завлек,
Но все проказы ныне им забыты,
И, хоть бы страсть в нем синий взор зажег,
С толпой вздыхателей смешаться он не мог.
Кто лишь вздыхает — это всем известно —
Не знает женщин, их сердечных дел.
Ты побежден, и ей неинтересно,
Вздыхай, моли, но соблюдай предел.
Иначе лишь презренье твой удел.
Из кожи лезь — у вас не будет лада!
К чему моленья? Будь остер и смел,
Умей смешить, подчас кольни, где надо,
При случае польсти, и страсть — твоя награда!
Прием из жизни взятый, не из книг!
Но многое теряет без возврата
Кто овладел им. Цели ты достиг.
Ты насладился, но чрезмерна плата:
Старенье сердца, лучших сил утрата,
И страсть сыта, но юность сожжена,
Ты мелок стал, тебе ничто не свято,
Любовь тебе давно уж не нужна,
И, все мечты презрев, душа твоя больна.
Но в путь! Иной торопит нас предмет.
Немало стран пройти мы обещали,
И не игре Воображенья вслед,
А волею задумчивой печали.
Мы стран таких и в сказках не встречали,
И даже утописты наших дней{121}
Такой картиной нас не обольщали, —
Те чудаки, что исправлять людей
Хотят при помощи возвышенных идей.
Природа-мать, тебе подобных нет,
Ты жизнь творишь ты создаешь светила.
Я приникал к тебе на утре лет,
Меня, как сына, грудью ты вскормила
И не отвергла, пусть не полюбила.
Ты мне роднее в дикости своей,
Где власть людей твой лик не осквернила.
Люблю твою улыбку с детских дней,
Люблю спокойствие — но гнев еще сильней.
Среди мудрейших в главы хрестоматий,
Албания, вошел твой Искандер.
Героя тезка{122} — бич турецких ратей —
Был тоже рыцарь многим не в пример.
Прекрасна ты, страна хребтов, пещер,
Страна людей, как скалы, непокорных,
Где крест поник, унижен калойер{123},
И полумесяц на дорогах горных
Горит над лаврами средь кипарисов черных.
Гарольд увидел скудный остров тот,
Где Пенелопа, глядя вдаль, грустила,
Скалу влюбленных над пучиной вод,
Где скорбной Сафо влажная могила{124}.
Дочь Лесбоса! Иль строф бессмертных сила
От смерти не могла тебя спасти?
Не ты ль сама бессмертие дарила!
У лиры есть к бессмертию пути,
И неба лучшего нам, смертным, не найти.
То было тихим вечером осенним,
Когда Левкады{125} Чайльд узнал вдали,
Но мимо плыл корабль, и с сожаленьем
На мыс глядел он. Чайльда не влекли
Места, где битвы грозные прошли,
Ни Трафальгар{126}, ни Акциум{127} кровавый.
Рожденный в тихом уголке земли,
Он презирал, пустой не бредя славой,
Солдат-наемников и даже вид их бравый.
Но вот блеснул звезды вечерней свет,
И, весь отдавшись странному волненью,
Гарольд послал прощальный свой привет
Скале любви{128} с ее гигантской тенью.
Фрегат скользил, как бы охвачен ленью,
И Чайльд глядел задумчиво назад,
Волны возвратной следуя движенью,
Настроясь вновь на свой привычный лад.
Но лоб его светлел, и прояснялся взгляд.
Над скалами Албании{129} суровой
Восходит день. Вот Пинд{130} из темных туч
В тюрбане белом, черный и лиловый,
Возник вдали. На склоне мшистых круч
Селенья бледный освещает луч.
Там лютый барс в расселинах таится,
Орел парит, свободен и могуч.
Там люди вольны, словно зверь и птица,
И буря, Новый год встречая, веселится.
И вот где Чайльд один! Пред ним края,
Для христианских языков чужие.
Любуясь ими, но и страх тая,
Иной минует скалы их крутые.
Однако Чайльд изведал все стихии,
Не ищет гроз, но встретить их готов,
Желаний чужд, беспечен, и впервые
Дыша свободой диких берегов,
И зной он рад терпеть, и холод их снегов.
Вот Красный крест{131}, один лишь Крест всего,
Посмешище приверженцев Ислама,
Униженный, как те, кто чтит его.
О Суеверье, как же ты упрямо!
Христос, Аллах ли, Будда или Брама,
Бездушный идол, бог — где правота?
Но суть одна, когда посмотришь прямо:
Церквам — доход, народу — нищета!
Где ж веры золото, где ложь и суета?
А вот залив, где отдан был весь мир
За женщину{132}, где всю армаду Рима,
Царей азийских бросил триумвир.
Был враг силен, любовь — непобедима.
Но лишь руины смотрят нелюдимо,
Где продолжатель Цезаря{133} царил.
О деспотизм, ты правишь нетерпимо!
Но разве бог нам землю подарил,
Чтоб мир лишь ставкою в игре тиранов был?
От этих стен, от Города Побед{134}
Чайльд едет в иллирийские долины{135}.
В истории названий этих нет,
Там славные не встретятся руины,
Но и роскошной Аттики{136} картины,
И дол Тампейский{137}, и тебя, Парнас,
Затмил бы многим этот край пустынный,
Не будь вы милой классикой для нас.
Идешь — любуешься, — и все чарует глаз!
Минуя Пинд, и воды Ахерузы{138},
И главный город, он туда идет,
Где Произвол надел на Вольность узы,
Где лютый вождь Албанию гнетет{139},
Поработив запуганный народ.
Где лишь порой, неукротимо-дики,
Отряды горцев с каменных высот
Свергаются, грозя дворцовой клике,
И только золото спасает честь владыки.
О Зитца{140}! Благодатный монастырь!
Какая тень! Как все ласкает взоры!
Куда ни смотришь: вниз иль в эту ширь —
Как лучезарно-радужны просторы!
Все гармонично: небо, лес и горы,
Нависших скал седые горбыли,
Ручьев, по склонам вьющихся, узоры,
Да водопада мерный шум вдали,
И синевы потоп от неба до земли.
Когда б уступы мрачных гор кругом
Не высились громадою надменной,
Мохнатый холм, увенчанный леском,
Казался бы величественной сценой.
В обители укрывшись белостенной,
От суеты бытийственной храним,
Живет монах, анахорет смиренный,
И здесь невольно медлит пилигрим,
Внимая голосам природы, как родным.
Он забывает знойный, пыльный путь,
Его листва объемлет вековая,
А ветерок живит и нежит грудь
И в сердце льет благоуханье рая.
Внизу осталась толчея людская,
Не может зной проникнуть в эту сень,
До дурноты, до злости раздражая.
Лежишь и смотришь, услаждая лень,
Как день за утром встал, как вечер сменит день.
Кругом — вулканов мертвая гряда,
За ними Альп химерских седловина{141},
А там потоки, хижины, стада —
Внизу живет и движется долина.
Там сосны, тут стрельчатая раина,
Чернеет легендарный Ахерон{142},
Река теней, — волшебная картина!
И это входы в Тартар{143}? — нет, Плутон,
Пусть рай закроется, меня не манит он!
Не портят вида разные строенья.
Янину скрыла ближних гор стена,
Лишь там и здесь убогие селенья,
Кой-где маячит хижина одна,
А вон поляна горная видна,
Пасутся козы, пастушок на круче.
Простых забот вся жизнь его полна:
Мечтает, спит, глядит, откуда тучи,
Или в пещере ждет, чтоб минул дождь ревучий.
Додона{144}, где твой лес, твой вещий ключ,
Оракул твой и дол благословенный,
Слыхавший Зевса голос из-за туч?
Где храм его, для Греции священный?
Их нет. Так нам ли, коль падут и стены,
Роптать на то, что смертным Смерть грозит!
Молчи, глупец! И мы, как боги, тленны.
Пусть долговечней дуб или гранит,
Всё — троны, языки, народы Рок сразит.
Эпир прошли мы. Насмотревшись гор,
Любуешься долинами устало.
В такой нарядный, праздничный убор
Нигде весна земли не одевала.
Но даже здесь красот смиренных мало.
Вот шумно льется речка с крутизны,
Над нею лес колеблет опахала,
И тени пляшут в ней, раздроблены,
Иль тихо спят в лучах торжественной луны.
За Томерит{145} зашло светило дня,
Лаос{146} несется с бешеным напором,
Ложится тьма, последний луч тесня,
И, берегом сходя по крутогорам,
Чайльд видит вдруг: подобно метеорам,
Сверкают минареты за стеной.
То Тепелена, людная, как форум,
И говор, шум прислуги крепостной,
И звон оружия доносит бриз ночной.
Минуя башню, где гарем священный,
Из-под массивной арки у ворот
Он видит дом владыки Тепелены
И перед ним толпящийся народ.
Тиран в безумной роскоши живет:
Снаружи крепость, а внутри палаты.
И во дворе — разноплеменный сброд:
Рабы и гости, евнухи, солдаты,
И даже, среди них, «сантоны» — те, кто святы.
Вдоль стен, по кругу, сотни три коней,
На каждом, под седлом, чепрак узорный,
На галереях множество людей,
И, то ли вестовой или дозорный,
Какой-нибудь татарин в шапке черной
Вдруг на коня — и скачет из ворот.
Смешались турок, грек, албанец горный,
Приезжие с неведомых широт,
А барабан меж тем ночную зорю бьет.
Вот шкипетар{147}, он в юбке, дикий взор,
Его ружье с насечкою богатой,
Чалма, на платье золотой узор.
Вот македонец — красный шарф трикраты
Вкруг пояса обмотан. Вот в косматой
Папахе, с тяжкой саблею, дели{148}.
Грек, черный раб иль турок бородатый, —
Он соплеменник самого Али,
Он не ответит вам. Он — власть, он — соль земли.
Те бродят, те полулежат, как гости,
Следя за пестрой сменою картин.
Там спорят, курят, там играют в кости,
Тут молится Ислама важный сын.
Албанец горд, идет, как властелин.
Ораторствует грек, видавший много.
Чу! С минарета кличет муэдзин,
Напоминая правоверным строго:
«Молитесь, бог один! Нет бога кроме бога!»
Как раз подходит Рамазан, их пост.
День летний бесконечен, но терпенье!
Чуть смеркнется, с явленьем первых звезд,
Берет Веселье в руки управленье.
Еда — горою, блюда — объеденье!
Кто с галереи в залу не уйдет?
Теперь из комнат крики, хохот, пенье,
Снуют рабы и слуги взад-вперед,
И каждый что-нибудь приносит иль берет.
Но женщин нет: пиры — мужское дело.
А ей — гарем, надзор за нею строг.
Пусть одному принадлежит всецело,
Для клетки создал мусульманку бог!
Едва ступить ей можно за порог.
Ласкает муж, да год за годом дети,
И вот вам счастья женского залог!
Рожать, кормить — что лучше есть на свете?
А низменных страстей им незнакомы сети.
В обширной зале, где фонтан звенит,
Где стены белым мрамором покрыты,
Где все к усладам чувственным манит,
Живет Али, разбойник именитый.
Нет от его жестокости защиты,
Но старчески-почтенные черты
Так дружелюбно-мягки, так открыты,
Полны такой сердечной доброты,
Что черных дел за ним не заподозришь ты.
Кому, когда седая борода
Мешала быть, как юноша, влюбленным?
Мы любим невзирая на года,
Гафиз{149} согласен в том с Анакреоном{150}.
Но на лице, годами заклейменном,
Как тигра коготь, оставляет шрам
Преступность, равнодушная к законам,
Жестокость, равнодушная к слезам.
Кто занял трон убийц, убийством правит сам.
Однако странник здесь найдет покой,
Тут все ему в диковинку, все ново,
Он отдохнет охотно день-другой.
Но роскошь мусульманского алькова,
Блеск, мишура — все опостылит снова,
Все было б лучше, будь оно скромней.
И Мир бежит от зрелища такого,
И Наслажденье было бы полней
Без этой роскоши, без царственных затей.
В суровых добродетелях воспитан,
Албанец твердо свой закон блюдет.
Он горд и храбр, от пули не бежит он,
Без жалоб трудный выдержит поход.
Он — как гранит его родных высот.
Храня к отчизне преданность сыновью,
Своих друзей в беде не предает
И, движим честью, мщеньем иль любовью,
Берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью.
Среди албанцев прожил Чайльд немало.
Он видел их в триумфе бранных дней,
Видал и в час, когда он, жертва шквала,
Спасался от бушующих зыбей.
Душою черствый в час беды черствей,
Но их сердца для страждущих открыты —
Простые люди чтут своих гостей,
И лишь у вас, утонченные бритты,
Так часто не найдешь ни крова, ни защиты.
Случилось так, что ветром и волной
Корабль Гарольда к Сулии помчало,
Чернели рифы, и ревел прибой,
Но капитан и не искал причала.
Была гроза, и море бушевало,
Однако люди больше волн и скал
Боялись тут засады и кинжала,
Который встарь без промаха карал,
Когда незваный гость был турок или галл.
Но все ж подплыть отважились, и что же —
Их сулиоты{151} в бухту провели
(Гостеприимней шаркуна-вельможи
Рыбак иль скромный труженик земли),
Очаг в хибарке и светец зажгли,
Развесили одежды их сырые,
Радушно угостили чем могли —
Не так, как филантропы записные,
Но как велят сердца бесхитростно-простые.
Когда же дале Чайльд решил идти,
Устав от гор, от дикой их природы,
Ему сказали, что на полпути
Бандитской шайкой заняты проходы,
Там села жгут, там гибнут пешеходы!
Чтоб лесом Акарнании скорей
Пройти туда, где Ахелоя{152} воды
Текут близ этолийских рубежей,
Он взял в проводники испытанных мужей.
Где Утракийский круглый спит залив{153}
Меж темных рощ, прильнув к холмам зеленым,
И не бушуют волны, отступив,
Но в синий день сверкают синим лоном,
Иль зыблются под звездным небосклоном,
Где западные ветры шелестят, —
Гарольд казался тихо умиленным,
Там был он принят, как любимый брат,
И радовался дню и ночи был он рад.
На берегу огни со всех сторон,
Гостей обходят чаши круговые.
И кажется, чудесный видит сон,
Тому, кто видит это все впервые.
Еще краснеют небеса ночные,
Но игры начинать уже пора.
И паликары{154}, сабли сняв кривые
И за руки берясь, вокруг костра
Заводят хоровод и пляшут до утра.
Поодаль стоя, Чайльд без раздраженья
Следил за веселящейся толпой.
Не оскорбляли вкуса их движенья,
И не было вульгарности тупой
Во всем, что видел он перед собой.
На смуглых лицах пламя грозно рдело,
Спадали космы черною волной,
Глаза пылали сумрачно и смело,
И все, что было здесь, кричало, выло, пело.
Тамбурджи{155}, тамбурджи! Ты будишь страну,
Ты, радуя храбрых, пророчишь войну.
И с гор кимериец{156} на зов твой идет,
Иллирии сын и смельчак сулиот.
Косматая шапка, рубаха как снег.
Кто может сдержать сулиота набег?
Он, волку и грифу оставив стада,
Свергается в дол, как с утеса вода.
Ужель кимериец врага пощадит?
Он даже друзьям не прощает обид.
И месть его пуле, как честь, дорога —
Нет цели прекрасней, чем сердце врага!
А кто македонца осилит в бою?
На саблю он сменит охоту свою.
Вот жаркая кровь задымилась на ней,
И шарф его красный от крови красней.
Паргийским пиратам{157} богатый улов:
Французам дорога на рынок рабов!
Галеры хозяев своих подождут,
Добычу в лесную пещеру ведут.
Нам золото, роскошь и блеск ни к чему —
Что трус покупает, я саблей возьму.
Ей любо красавиц чужих отнимать,
Пусть горько рыдает о дочери мать.
Мне ласка красавицы слаще вина,
Кипящую кровь успокоит она
И в песне прославит мой подвиг и бой,
Где пал ее брат иль отец предо мной,
Ты помнишь Превезу?{158} О, сладостный миг!
Бегущих мольбы, настигающих крик!
Мы предали город огню и мечу, —
Безвинным пощада, но смерть богачу!
Кто служит визирю, тот знает свой путь.
И жалость и страх, шкипетар, позабудь!
С тех пор как Пророк удалился с земли,
Вождей не бывало подобных Али.
Мухтар{159}, его сын, — у Дуная-реки.
Там гонят гяуров{160} его бунчуки{161},
Их волосы желты, а лица бледны.
Из русских второй не вернется с войны.
Так саблю вождя обнажай, селиктар{162}!
Тамбурджи! твой зов это кровь и пожар.
Клянемся горам, покидая свой дом:
Погибнем в бою иль с победой придем!
Моя Эллада, красоты гробница!
Бессмертная и в гибели своей,
Великая в паденье! Чья десница
Сплотит твоих сынов и дочерей?
Где мощь и непокорство прошлых дней,
Когда в неравный бой за Фермопилы{163}
Шла без надежды горсть богатырей?
И кто же вновь твои разбудит силы
И воззовет тебя, Эллада, из могилы?
Когда за вольность бился Фразибул{164},
Могли ль поверить гордые Афины,
Что покорит их некогда Стамбул
И ввергнет в скорбь цветущие долины.
И кто ж теперь Эллады властелины?
Не тридцать их — кто хочет, тот и князь.
И грек молчит, и рабьи гнутся спины,
И, под плетьми турецкими смирясь,
Простерлась Греция, затоптанная в грязь.
Лишь красоте она не изменила,
И странный блеск в глазах таит народ,
Как будто в нем еще былая сила
Неукротимой вольности живет.
Увы! он верит, что не вечен гнет,
Но веру он питает басней вздорной,
Что помощь иноземная придет,
И раздробит ярем его позорный,
И вырвет слово «грек» из книги рабства черной.
Рабы, рабы! Иль вами позабыт
Закон, известный каждому народу?
Вас не спасут ни галл, ни московит,
Не ради вас готовят их к походу,
Тиран падет, но лишь другим в угоду.
О Греция! Восстань же на борьбу!
Раб должен рам добыть себе свободу!
Ты цепи обновишь, но не судьбу.
Иль кровью смыть позор, иль быть рабом рабу!
Когда-то город силой ятаганов{165}
Был у гяура отнят. Пусть опять
Гяур османа{166} вытеснит, воспрянув,
И будет франк{167} в серале{168} пировать,
Иль ваххабит{169}, чей предок, словно тать,
Разграбил усыпальницу Пророка,
Пойдет пятою Запад попирать, —
К тебе Свобода не преклонит ока,
И снова будет раб нести ярмо без срока.
Но как-никак, перед постом их всех
К веселью тянет. Нужно торопиться:
Ведь скоро всем, за первородный грех,
Весь день не есть, потом всю ночь молиться.
И вот, поскольку ждет их власяница,
Дней пять иль шесть веселью нет преград.
Чем хочешь, можешь тайно насладиться,
Не то кидайся в карнавальный чад,
Любое надевай — и марш на маскарад!
Веселью, как безудержной стихии,
Стамбул себя всецело отдает.
Хотя тюрбаны чванствуют в Софии{170},
Хотя без храма греческий народ
(Опять о том же стих мой слезы льет!),
Дары Свободы славя в общем хоре,
К веселью звал Афины их рапсод,
Но лишь Притворство радуется в горе,
И все же праздник бьет весельем на Босфоре.
Беспечной, буйной суматохе в лад
Звучит, меняясь, хор без перерыва.
А там, вдали, то весла зашумят,
То жалуются волны сиротливо.
А вот промчался ветер от залива,
И кажется, покинув небосвод,
Владычица прилива и отлива{171},
Чтоб веселее праздновал народ,
Сама, удвоив свет, сияет в глуби вод.
Качает лодки чуткая волна,
Порхают в пляске дочери Востока,
Конечно, молодежи не до сна,
И то рука, то пламенное око
Зовут к любви, и страсть, не выждав срока,
Касаньем робким сердце выдает.
Любовь, любовь! Добра ты иль жестока,
Пускай там циник что угодно врет, —
И годы мук не жаль за дни твоих щедрот!
Но неужели в вихре маскарада
Нет никого, кто вспомнил бы о том,
Что умерло с тобой, моя Эллада;
Кто слышит даже в рокоте морском
Ответ на боль, на слезы о былом;
Кто презирает этот блеск нахальный
И шум толпы, ликующей кругом;
Кто в этот час, для Греции печальный,
Сменил бы свой наряд на саван погребальный.
Нет, Греция, тот разве патриот,
Кто, болтовнею совесть успокоя,
Тирану льстит, покорно шею гнет
И с видом оскорбленного героя
Витийствует и прячется от боя.
И это те, чьих дедов в оны дни
Страшился перс и трепетала Троя!
Ты все им дать сумела, но взгляни:
Не любят матери истерзанной они!
Когда сыны Лакедемона{172} встанут
И возродится мужество Афин,
Когда сердца их правнуков воспрянут
И жены вновь начнут рождать мужчин,
Ты лишь тогда воскреснешь из руин.
Тысячелетья длится рост державы,
Ее низвергнуть — нужен час один,
И не вернут ей отошедшей славы
Ни дальновидный ум, ни злата звон лукавый,
Но и в оковах ты кумир веков,
К тебе — сердец возвышенных дороги,
Страна людьми низвергнутых богов,
Страна людей, прекрасных, точно боги.
Долины, рощи, гор твоих отроги
Хранят твой дух, твой гений, твой размах.
Разбиты храмы, рушатся чертоги,
Развеялся твоих героев прах,
Но слава дел твоих еще гремит в веках.
И ныне среди мраморных руин,
Пред колоннадой, временем разбитой,
Где встарь сиял воздушный храм Афин,
Венчая холм{173}, в столетьях знаменитый,
Иль над могилой воина забытой,
Среди непотревоженной травы,
Лишь пилигрим глядит на эти плиты,
Отшельник, чуждый света и молвы,
И, сумрачно вздохнув, как я, шепнет: увы!
Но ты жива, священная земля,
И так же Фебом пламенным согрета.
Оливы пышны, зелены поля,
Багряны лозы, светел мед Гимета{174}.
Как прежде, в волнах воздуха и света
Жужжит и строит влажный сот пчела.
И небо чисто, и роскошно лето.
Пусть умер гений, вольность умерла, —
Природа вечная прекрасна и светла.
И ты ни в чем обыденной не стала,
Страной чудес навек осталась ты.
Во всем, что детский ум наш воспитало,
Что волновало юные мечты,
Ты нам являешь верные черты
Не вымысла, но подлинной картины.
Пусть Время рушит храмы иль мосты,
Но море есть, и горы, и долины,
Не дрогнул Марафон{175}, хоть рухнули Афины.
Не землю ты, не солнце в небесах,
Лишь господина, став рабой, сменила.
В бескрылом рабстве гений твой исчах,
И только Слава крылья сохранила.
Меж этих гор — персидских орд могила.
Эллады нет, но слово «Марафон»{176},
С которым ты навек себя сроднила,
Являет нам из глубины времен
Теснину, лязг мечей, и кровь, и павших стоп,
Мидян{177} бегущих сломанные луки,
И гибель перса, и позор его,
Холмы, и дол, и берегов излуки,
И победивших греков торжество,
Но где трофеи гнева твоего,
Край, где Свободой Азия разбита?
Ни росписей, ни статуй — ничего!
Все вор унес, твоя земля разрыта,
И топчут пыль коня турецкого копыта.
И все же ты, как в древности, чудесен,
Ты каждой гранью прошлого велик,
Заветный край героев, битв и песен,
Где родился божественный язык,
Что и в пределы Севера проник
И зазвучал, живой и юный снова,
В сердцах горячих, на страницах книг,
Искусства гордость, мудрости основа,
Богов и светлых муз возвышенное слово.
В разлуке мы тоскуем о родном,
О доме, где в слезах нас провожали,
Но одинокий здесь найдет свой дом
И он вздохнет о родине едва ли.
Все в Греции сродни его печали,
Все родственней его родной земли.
И прах богов не отряхнет с сандалий
Кто был в краю, где Дельфы встарь цвели,
Где бились перс и грек, и рядом смерть нашли.
{178}