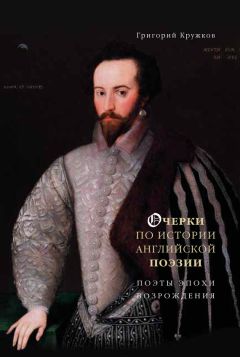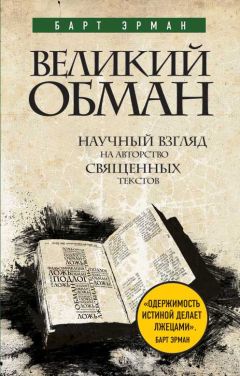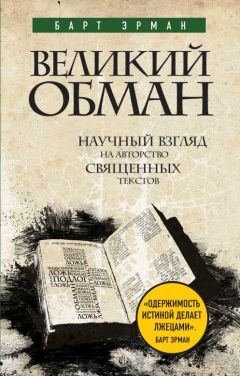Григорий Кружков - Очерки по истории английской поэзии. Романтики и викторианцы. Том 2
Бросается в глаза обилие необычных слов. В частности: «мыза» – старопетербургское «дача» или «хутор» (взято из эстонского или финского языка), «экономия» – тоже хутор, но уже в применении к немецким колонистам на юге России. Так Пастернак создавал отстранение, «нерусский» колорит стихов.
Обратимся к последней строфе. Как зримо и точно сказано о тучах мошкары, вытягивающихся в воздухе «то веретенами, то вереницей»! Вместо малиновки в предпоследнюю строку залетает «реполов» (согласно словарю, то же, что коноплянка). И самое разительное – полное отсутствие эмоционально окрашенных слов. У Маршака, как мы помним, их было три: «скорбный», «задумчивый», «прощальный»… Тут уже впору глядеть в оригинал. У Китса – только одно печальное слово: «gnats mourn» – комары заунывно звенят, в двух же последних строках сказано просто:
The red-breast whistles from a garden-croft;
And gathering swallows twitter in the sky.
(Малиновка свистит с огорода,
И собирающиеся в стаи ласточки щебечут в небе.)
Итак, что скажет простая арифметика? Эмфатической лексики: у Китса – 1 шт., у Пастернака – 0, у Маршака – 3. Пастернак, по-видимому, полагал, что ореола названия («Ода к осени»), витающего над стихотворением, достаточно, – оставив несказанное на догадку читателю. Маршак, не удержавшись, добавил «жалостливых слов», аукнувшись с Жуковским и Греем. Я очень люблю его перевод. Но с чисто арифметической точки зрения Пастернак ближе к оригиналу.
Уроки английскогоВпервые серьезно взяться за английский язык Пастернак решил осенью 1913 года. В сборник «Сестра моя – жизнь» войдет стихотворение «Уроки английского»:
Когда случилось петь Дездемоне, –
А жить так мало оставалось, –
Не по любви, своей звезде, она –
По иве, иве разрыдалась.
К сожалению, мы не знаем имени учительницы, у которой он брал уроки; известно лишь, что это была англичанка-гувернантка, работавшая одно время в семье Высоцких. Несомненно одно: к языку гордых бриттов ученика влекла прежде всего поэзия (как и Пушкина, учившего английский сперва ради Байрона, потом ради Шекспира). В январском письме Локсу Пастернак выписывает отрывок из письма Китса Джону Рейнольд су. Ситуация зеркальная: через сто лет одна пара друзей отражается в другой. «Дорогой Костя», – начинает письмо Пастернак, а в выписке идет: «Дорогой мой Рейнольде». Впрочем, Борис затушевывает симметрию с удивительной деликатностью: он не только извиняется за «безвкусицу перевода» (!), вызванную поспешностью и тем, что книгу нужно вернуть «через два часа» (значит, очень понравилось, если выпросил на такой краткий срок), но и объясняет саму выписку своим удивлением от сходства мыслей Китса с «образом жизни» своего друга. Мы же, читая, удивляемся сходству этих мыслей с философией самого Пастернака. Перевод (действительно шероховатый, но отнюдь не «безвкусный») звучит так:
У меня явилась мысль, что человек мог бы провести жизнь в сплошном наслаждении такого рода: пусть он прочтет в один прекрасный день какую-нибудь страницу, исполненную поэзии, или страницу утонченной прозы, пусть он отправится затем бродить без цели, не оставляя мысли об этой странице, пусть он согласует с нею свои мечты, размышляет о ней, сживется с ее жизнью, пророчит, на ней основываясь, и видит ее во сне ‹…› как сладостно будет ему это ‹…› усердное бездействие. И никогда скупое это пользование великими книгами не будет каким-то видом неуважения к писателям. Потому что почести, оказываемые людьми друг другу, – может быть, одни пустые безделицы в сравнении с благодеянием, совершенным великими творениями при их только пассивном существовании. ‹…› В последнее время мне кажется, что каждый может, подобно пауку, выткать изнутри, из самого себя, свою воздушную цитадель.
И дальше от перевода Пастернак переходит к пересказу (курсив – мой):
Затем он говорит о том, что своеобразие каждой души при таком неуклонном удалении от соседней грозит уделом полной непонятности. Но опасность эта мнимая. Доведя свою исключительность до абсолютных размеров, каждый в этой абсолютности встретит однажды покинутого соседа.
Даже не верится, что это мысли Китса, – настолько по-пастернаковски они звучат. Перед нами – надолго вперед рассчитанная стратегия его собственной поэзии, исчерпывающее объяснение ее «сложности и непонятности». А впрочем, можно проверить. Откроем письмо Рейнольдсу от 19 февраля 1818 года. В оригинале сказано примерно следующее: характеры людей различны, трудно найти трех человек с одинаковыми вкусами; но это только так кажется; мысли людей расходятся в разные стороны, а потом снова пересекаются и совпадают. Ничего от драматизма пастернаковского изложения у Китса нет – ни «неуклонного удаления от соседней», ни «угрозы полной непонятности», ни «опасности». И конечно, никакого «доведения своей исключительности до абсолютных размеров».
Что же, Пастернак нарочно вводит в заблуждение друга? Да нет же! Он просто сделал то, что ему насоветовал Ките: прочел страницу «утонченной прозы», отправился бродить, не оставляя мысли об этой странице, согласовал с нею свои мечты – и, наконец, стал пророчить, основываясь на этой странице… (И кстати, правильно напророчил.) Видимо, он даже не заметил, что говорит уже больше от себя, чем от пересказываемого автора.
Далее в письме Рейнольдсу следует стихотворение «Что сказал дрозд», с помощью которого Ките доказывает свой тезис об «усердном безделье», об ущербности многознания и о том, что люди напрасно не доверяют самобытности собственного ума. Пастернак тоже перевел его в своем письме Локсу, хотя вчерне и не полностью. Я позволю себе привести здесь последние шесть строк в своем переводе.
За знаньем не гонись – я знаю мало,
Но по весне сама родится песня.
За знаньем не гонись – я знаю мало,
Но Вечер мне внимает. Тот, кто мыслью
О праздности терзается, не празден,
И тот не спит, кто думает, что спит.
Пастернаковские переводы из Китса (сделанные весной 1938 года) наперечет: «Ода к осени», вступление к «Эндимиону», два сонета. Но оказывается, еще за двадцать пять лет до этого Пастернак выписывал цитаты из Китса и пробовал его на зуб. И напрасно потом Пастернак бранился против романтизма: оказал же ему английский романтик неоценимое благодеяние одним своим «пассивным существованием», заочным разговором о непонятности поэзии. Далеко раскатилось эхо и от китсовского дрозда – может быть, вплоть до самого: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну…».
Римские лестницы. Вместо эпилогаРим – город холмов и, следовательно, лестниц. Лестница – символ преодоления, фонтан – легкости и неистощимости жизни.
О римских фонтанах я впервые услышал от Аркадия Штейн-берга. Он сказал: «Всякий, кто хочет научиться переводить сонеты, должен знать наизусть «Римские сонеты» Вячеслава Иванова». И прочел:
Через плечо слагая черепах,
Горбатых пленниц, на мель плоской вазы,
Где брызжутся на воле водолазы,
Забыв, неповоротливые, страх, –
Танцуют отроки на головах
Курносых чудищ. Дивны их проказы:
Под их пятой уроды пучеглазы
Из круглой пасти прышут водный прах.
Фонтан «Черепаха» я отыскал на маленькой затрапезной площади, в стороне от обычных туристских троп. Я тщательно проверил Иванова, сравнил, так сказать, с оригиналом: в сонете все оказалось верно, только много лучше:
Их четверо резвятся на дельфинах.
На бронзовых то голенях, то спинах
Лоснится дня зелено-зыбкий смех.
И в этой неге лени и приволий
Твоих ловлю я праздничных утех,
Твоих, Лоренцо, эхо меланхолий.
Вот я и увидел римские фонтаны – почти через тридцать лет. Длинная жизнь. Помнится, в том году, когда я познакомился с А. Штейнбергом, Худлит заказал мне переводить «Падение Гипериона» Китса. Главное в этой поэме – лестница. Поэт во сне оказывается в каком-то колоссальном храме, видит впереди возвышение, на котором мерцает алтарное пламя, – и вдруг поражен голосом, грозящим ему немедленной гибелью, если он не сумеет взойти на священную высоту:
Во всей Вселенной нет руки, могущей
Перевернуть песочные часы
Твоей погибшей жизни, если эта
Смолистая кора на алтаре
Дотлеет прежде, чем сумеешь ты
Подняться на бессмертные ступени.
Поэт ошеломлен величием храма, высота кажется недостижимой… Уже угасает жертвенное пламя, когда последним усилием он преодолевает страх и неминуемую гибель. Кажется, сама судорога преодоления окаменела в этих строках:
еще горел
Огонь на алтаре, когда внезапно
Меня сотряс – от головы до пят –
Озноб, и словно жесткий лед сковал
Те струи, что пульсируют у горла.
Я закричал; и собственный мой крик
Ожег мне уши болью; я напряг
Все силы, чтобы вырваться из хватки
Оцепенения, чтобы достичь
Ступени нижней…
Есть какая-то робость, которая заставляет паломника ходить кругами, прежде чем приблизиться к цели своего паломничества. Ая не знал, где в Риме находится «дом Китса» и кладбище, на котором он похоронен. Я просто взял карту и наметил карандашом линию: от Колизея до Пьяцца ди Спанья – потому что в путеводителе было сказано, что это место сбора туристов, приезжающих в Рим. Главная достопримечательность площади – живописная, в двенадцать пролетов, лестница, ведущая наверх, к церкви Тринитадей Монти. Здесь всегда много молодежи – смеются, едят мороженое, знакомятся. Я тоже присел на ступеньку, жмурясь на солнце. Минут двадцать прошло в бессмысленной эйфории. Потом, с чувством исполненного долга, я поднялся и попросту обратился к первому попавшемуся карабинеру с вопросом, где мне найти музей Китса в Риме.