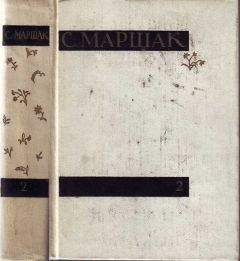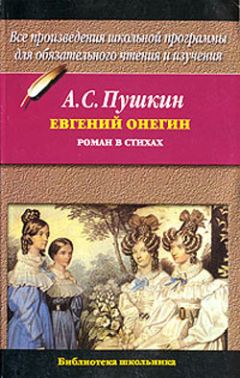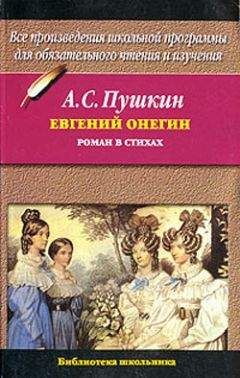Игорь Губерман - Седьмой дневник
Тут я докурил вторую сигарету и хотел было вернуться в дом, но вспомнил о романтическом интерьере и решил, что уже мало времени.
А в доме Салтыкова-Щедрина великолепно и внутри. И даже стол его стоит – большая вероятность, что подлинный. Как-то не столь давно заехав в город Тверь, был я приглашён местным телевидением дать интервью не где-нибудь, а за музейным столом когдатошнего вице-губернатора Салтыкова-Щедрина. Стол был моложе того времени лет на пятьдесят и был слишком миниатюрен для употребления большим чиновником, но я тактично промолчал всё время съемок. А потом не выдержал, конечно, и свою уверенность, что им фальшак подсунули, невежливо озвучил. Но музейная девица с укоризной мне ответила, что людям интересно и они даже потрогать норовят. А с этим аргументом не поспоришь.
Прекрасный дом был у ссыльного писателя и четыре человека прислуги. По служебной лестнице он подвигался очень быстро и спустя три года после приезда был уже советником губернского правления – совсем немаленькая должность (а было ему в ту пору двадцать два года). Жить и жить бы в такой ссылке, где в лучшие дома он приглашался непременно – хоть и ссыльный, а жених завидный, – но писал он непрерывно в Петербург прошения, чтобы помиловали. Все восемь (почти) лет, что прожил он в Вятке.
Начинал он очень уж блестяще. Выучился в Царскосельском лицее, где заведомо готовили будущих губернаторов и министров, лучшим был поэтом среди сверстников (потом своих стихов всю жизнь стеснялся), и уже печатали его столичные журналы. Только бес его попутал (а точней – талант уже проснувшийся): написал он повесть «Запутанное дело». В сорок восьмом в марте он её напечатал, а в апреле уже ехал в Вятку, сопровождаемый жандармским офицером. Сам он эту повесть иначе как ерундой не называл, но российское начальство всегда лучше разбиралось в литературе, чем сами авторы.
А на самом деле ему очень, чисто по-российски повезло, ибо спустя всего год начался процесс по делу Петрашевского, а Салтыков-Щедрин не только ходил в этот кружок, но и дружил с его основателем. Так что стоял бы он на эшафоте рядом с Достоевским, но уже был в ссылке, и по делу этого кружка воспалённых юношей его допрашивали в Вятке только в качестве свидетеля.
Мотался по всей губернии этот усердный молодой чиновник, сочинял за начальство все годовые отчёты (специальный переписчик был к нему приставлен по причине неразборчивого почерка) и начисто забыл, казалось бы, свои литературные забавы. Ни единого свидетельства не сохранилось. Но только-только возвратившись в Петербург, через каких-то несколько месяцев он предложил журналу «Русский вестник» объёмистые «Губернские очерки». Без заметок-заготовок, сделанных заранее, такое быстро не напишешь. А значит, в этом доме, не внушающем никаких подозрений (тут и пили, и играли в карты), где-то прятал он заветную рукопись, тихо радуясь, что она пополняется. И я с чувством душевной близости опять прошёл по комнатам, стараясь догадаться (я три года в своей сибирской избе прятал рукопись на чердаке между брёвнами – прости, читатель, манию величия, явленную в этой ассоциации, но ссыльные всея земли равны по чувству страха за свои бумаги). Вот и доверяй после этого письменным заверениям чиновника Салтыкова, что исправился и умоляет о возможности вернуться. И ему не доверяли.
Тут возникает человек, об имени которого не догадался бы даже такой великий знаток того времени, как историк Натан Эйдельман. О, как бы я был счастлив загадать ему эту загадку! Но как раз, когда я всё это пишу, друзья в Москве пьют водку, отмечая двадцать лет со дня его нелепой смерти.
Сопровождая своего мужа, генерала, посланного в Вятку по делам солдатского набора (шла война), сюда приехала Наталья Николаевна Ланская. О чём она разговаривала с Салтыковым, познакомившись с ним на балу (провинциальные балы роскошны), что они вспоминали, сидя у него дома (а она туда наезжала), и мелькало ли в их беседах светлое имя Пушкина – никто не знает. Только легенда есть (в музее рассказали), что к последнему прошению помиловать и отпустить из ссылки было приложено личное ходатайство Натальи Николаевны Ланской. И в пятьдесят шестом советник Салтыков-Щедрин оставил этот дом.
Когда мы проезжали мимо городской тюрьмы, услышал я, что здесь сидел когда-то знаменитый немецкий лётчик Эрик Хартман, сбивший за войну триста пятьдесят два самолёта, а потом в плену благополучно отсидевший десять лет. Выпустили его со всеми пленными немцами в середине пятидесятых. Я уже в который раз проглотил свой всегдашний вопрос: помнят ли здесь хоть чуть о страшном Вятлаге, одном из огромных подразделений ГУЛАГа? Было как-то ясно, что не помнят. А уже, наверно, нету и свидетелей живых.
Потом мы неторопливо проехали по краю огромного оврага, заросшего кустами и деревьями, и тут я услыхал историю, которая такой дурацкой радостью меня наполнила, что более я ничего смотреть не захотел. А благодетель Рома Гозман мне ещё и книжку подарил, где вся история описана.
Этот Раздерихинский овраг был некогда надё-жной защитой древней Вятки. На краю его стояла крепостная стена, с которой горожане лили горячую смолу на головы нападавших и поражали их стрелами из луков. А в пятнадцатом веке приключилась горестная история. Ещё была Вятка вольным городом, ещё не прибрала её Москва под свою широкую руку, правили городом воевода и три атамана. Жили горожане пушным промыслом, ремёслами и торговлей. И разнёсся слух однажды, что идут на Вятку татары. Быстро собрались вятичи на площади, обсудили свои силы и решили, что сами не справятся, надо просить помощи. Ближе всех был Великий Устюг, туда гонцов и послали. А спустя неделю донесли сторожевые, что к городу приближается какое-то войско. И хоть не ночью дело было, но стояла тьма кромешная, как и положено в хорошем эпосе. Когда втянулось это войско в Раздерихинский овраг и к стене подступило, горожане принялись за дело: полилась горячая смола и стрелы полетели. С криком отступили нападавшие, и вятские смельчаки кинулись их преследовать. Завязалась нешуточная битва, полилась кровь с обеих сторон, пал в бою отважный воевода. Не сразу распознали вятичи, что дерутся не с татарами они, а с подоспевшей к ним дружиной из Великого Устюга. Но четыре сотни уже пали в этой битве. Учинили по ним пышные поминки (с той поры, возможно, и пошла присказка – «своя своих не познаша и побиваша»), и часовню порешили тут поставить в память столь оплошно убиенных. А татары так и не пришли. Поминки совершались каждый год, на них устраивали состязания стрелков из лука и борцов и пили изобильно, постепенно этот день стал из поминального – праздничным.
Но что ж тогда произошло? Как можно было спутать устюжан с татарами, которые от века налетали конницей? Ответ на этот заковыристый вопрос совсем недавно дал один местный писатель, сочинивший книгу (вот она лежит рядом со мной) сказов о когда-то вольной Вятке. Вот что было там на самом деле пять веков тому назад.
Незадолго до случившейся трагедии явился в город Вятку очень неказистый человек. Был заметно кривоног он и слегка горбат, кудрявились из-под нелепой шапки волосы и круто опускался длинный нос к рыжей бородёнке. В кафтане был каком-то странном, нехорошие заплывшие глаза и пухлые слюнявые губы. А звали его – Ицка сын Соломона.
Вздрогнули, читатель? Лично я был рад безмерно: очень я люблю читать про разные злодейства нашего народа, где к тому же и нечистой силой пахнет.
Ибо Ицка Соломонович был ещё и колдуном. Он быстро умертвил невинную старуху Феклинью, которая лечила весь город целебными травами, и даже не пощадил её любимого гуся. Чтобы занять её избу, удобно стоявшую на отшибе. После он обвинил в воровстве и нерадивости местного сборщика налогов и сам стал мытарем, затеяв непомерные поборы. Воеводу Аникея он опоил хмельной медовухой и очаровал настолько, что тот шагу от него не отходил и подтверждал своим авторитетом всё, что Ицка говорил. Когда гадали жители, чьё войско подходит к городу, безвольный Аникей за Ицкой вслед стал убеждать сограждан, что это непременно татары, а коней они недалеко в лесу оставили, чтобы сподручней было штурмовать стены. А сами устюжане после вспомнили, что потому они на штурм пошли, что встретился им маленький горбатый человек, который сообщил, что татары уже взяли Вятку, празднуют победу и бесчинствуют, и самая пора сейчас на них напасть внезапно.
Но для чего же это учинил зловредный Ицка Соломонович? От нестерпимой страсти зло творить или какой-то у него другой был умысел?
Конечно, был, и вятичи это довольно быстро обнаружили. Когда пошли они на поле боя, чтобы павших с почестями похоронить, то ходили там по полю Ицка с Аникеем, и обшаривал блудный атаман покойников, а Ицка складывал добычу в кошелёк. И конечно, кинулись на них разъярённые воины, да только вместо Ицки Соломоновича объявился им огромный вепрь, с диким хрюканьем и криком унёсшийся в лесную чащу.