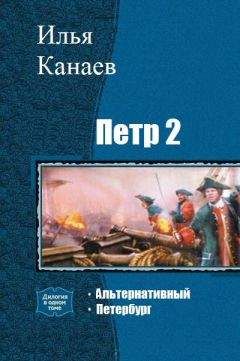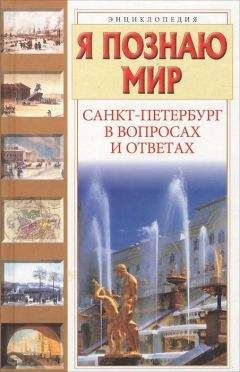Джон Китс - Поэмы
Дабы друг друга зреть и в сладком полусне.
И вдруг с далеких долетел холмов
Сквозь щебетанье птичье звонкий зов
Рожка - и Ликий вздрогнул: ибо разом
Сей звук смутил ему дремавший разум.
Впервые с той поры, как он впервые
Изведал девы ласки огневые
В чертоге тайном, дух его шагнул
В почти забытый мир, во свет и в гул.
И Ламия со страхом поняла,
Что, кроме заповедного угла,
Потребно много; много нужно, кроме
Страстей кипящих; что и в дивном доме
Окрестный мир застичь сумел врасплох;
Что мысли первый взлет - любви последний вздох.
"О чем вздыхаешь?" - Ликий тихо рек.
"О чем мечтаешь? - с быстрым всплеском век
Рекла она. - Заботы отпечатком
Отягчено чело... Ужель остатком
Былой твоей любви питаться впредь?
О, лучше бы немедля умереть!"
Но юноша, любовной полон жажды,
В зрачках девичьих отражался дважды,
И рек: "Звездою светишь для меня
На склоне дня и на восходе дня!
О милая! Ты - плоть моя и кровь;
К невянущей любви себя готовь:
Меж нами боги протянули нить.
Беречь тебя, стеречь тебя, хранить
Хочу! Душа с душой сплетется пусть.
Одно лобзанье - и растает грусть.
Мечтаю? Да! И вот о чем: такое
Сокровище обрел, что о покое
Мгновенно и навек забудут все,
Узрев тебя во всей неслыханной красе.
Коринф смятенный будет улья паче
Гудеть, завидуя моей удаче.
Сколь изумленно вытянутся лица,
Коль брачная покатит колесница
Сквозь уличные толпы!" Госпожа
Лишь охнула. Вскочила - и, дрожа,
Упала на колени: "Ликий!.." Ливнем
Слез разразилась, кои не смогли в нем
Поколебать решимости; отнюдь
Мольбе не внемля, раздувая грудь
Гордыней, злостью исполняясь жаркой,
Он сладить жаждал с робкою дикаркой:
Зане, любви нежнейшей вопреки,
Вразрез природе собственной, в тиски
Влечению попался, что готово
Блаженство из мучения чужого
Себе творить - а встарь не омрачало
Чела его столь темное начало.
Во гневе Ликий стал прекрасен сверх
Прежнего - как Феб, когда поверг
Пифона, змея злого... Змея? - Ба!
Где змеи здесь? Любовная алчба
Взыграла жарче, вопреки обидам.
И Ламия "о да" рекла с довольным видом.
И юноша полночною порою
Шепнул: "Но как зовешься? Ведь не скрою:
Робел спросить, поскольку - не вини!
Не смертным, но богам тебя сродни
Считаю... Только много ль есть имен,
Чей блеска твоего достоин звон?
А друг иль кровник сыщется ли в мире,
Чтоб ликовать с тобой на брачном пире?"
"Нет, - Ламия сказала, - в этом граде
Я не дружу ни с кем, покоя ради;
Родителей давно похоронили,
И с плит могильных не сметает пыли
Никто - ведь я, последняя в роду,
Живу с тобой и к мертвым не иду.
Зови друзей несчетно в гости; лишь
О, разреши молить, коли глядишь
С улыбкой вновь! - на празднество любви
Лишь Аполлония ты не зови!"
Причину столь необъяснимой просьбы
Стал юноша выпытывать; пришлось бы
Искусно лгать - и госпожа ему
С поспешностью навеяла дрему.
Невесте в оны дни велел обычай
На склоне дня покров надеть девичий
И встречь цветам, огням и брачным гимнам
Катить на колеснице во взаимном
Согласии с любимым... Но бедна,
Безродна Ламия! Совсем одна
Осталась - Ликий звать ушел гостей
И поняла: вовек не сладить ей
С беспечной спесью и безмозглым чванством.
Задумалась - и занялась убранством
Жилища: ожидалось много люда.
Не ведаю, кем были, и откуда,
И как сошли помощники - но крылья
Незримые шумели; и усилья
Несчетные свершались в зале главном.
И трапезный чертог предстал во блеске славном.
И тихий стон таинственного хора
Единственная, может быть, опора
Волшебным сводам - полнил дома недра.
И, свежеизваянные из кедра,
Платан и пальма с двух сторон листвой
У Ламии сплелись над головой.
Дне пальмы - два платана: в два ряда
Тянулась, повторяясь, череда
Сия; и восхитительно сиял,
Оправлен в пламень ламп, великолепный зал.
О, сколь возникших угощений лаком
Был вид и запах! И безмолвным знаком
Дает уведать Ламия: она
Почти довольна и ублажена;
Незримым слугам остается лишь
Умножить роскошь всех углов и ниш.
Где мраморные прежде были плиты,
Явилась яшма; сделались увиты
Стволы резные враз лозой ползучей.
И дева, обойдя чертог на всякий случай,
Не огорчилась ни одним изъяном
И дверь замкнула; в чистом, светлом, странном
Чертоге мирно, тихо... Но туда
Придет, увы, гостей разнузданных орда.
День возблистал и огласился сплетней.
О Ликий! О глупец! Чем незаметней
Дары судьбы заветные - тем краше;
К чему толпе глядеть на счастье наше?
Гурьба стекалась; каждый гость весьма
Дивился, не прикладывал ума
Отколь сей дом? Всяк ведал с детских лет:
На этой улице просветов нет
И негде строить. Чьим же был трудом
Высокий, царственный восставлен дом?
Когда и как? Гадал бесплодно всяк о том.
А некто был задумчив и суров
И медленно ступил под чудный кров.
Се Аполлоний. Вдруг смеется он
Как будто к тайне, множество препон
Чинившей для рассудка, найден ключ,
Разгадка брезжит, мглу пронзает луч.
И юного, перешагнув порог,
Узрел питомца. "Твой обычай строг,
О Ликий, - старец рек. - Придя незваным,
Тебя стесняю: вижусь черным враном,
Непрошеным губителем веселья
Младым друзьям; но не могу отсель я
Уйти - а ты прости". Залившись краской,
Учителя со всяческою лаской
Во внутренние двери Ликий ввел:
Заслуженный болезнен был укол.
Был трапезный несметно зал богат:
Повсюду блеск, сиянье, аромат
Близ каждой полированной панели
В курильнице сандал и мирра тлели;
Треножником священным возносима
Над пышными коврами, струйку дыма
Курильница подъемлет; пятьдесят
Курильниц - пятьдесят дымков летят
К высоким сводам; токи сих курений
Двоятся в зеркалах чредою повторений.
Столов двенадцать облых там на львиных
Вздымались лапах; там в сосудах винных
Играла влага; и теснились, тяжки,
Златые кубки, чары, блюда, чашки;
И яствами бы каждый стол возмог
Цереры трижды преисполнить рог.
И статуя средь каждого стола
Во славу божеству поставлена была.
При входе каждый гость вкушал прохладу
Набрякшей губки - добрую отраду:
Раб омывал гостям стопы и пясти,
А после - током благовонной масти
Влажнил власы; и юные пиряне
В порядке, установленном заране,
Рассаживались в трапезной, дивясь,
Откуда роскошь здесь подобная взялась.
И тихо льется музыка, и тих
Звук эллинских речей - певучесть их
И плавность уху явственны сполна,
Когда едва лишь хлынет ток вина.
Все новые вино струят амфоры;
Все громче струнный звон, и разговоры
Все громогласней. Роскошь, блеск, уют,
Убранства, брашна - проще предстают;
На Ламию глядят уж наравне
С прелестными рабынями - зане
Вино уже свое свершило дело,
И человечье с каждого слетело
Обличье... О теки, вино, теки
И мыслить понуждай рассудку вопреки!
И вскоре Вакх в лихой взошел зенит:
Пылают лица, в головах звенит.
Гирлянды вносят, в коих явлен всяк
Побег лесной, и всяк долинный злак;
Златые ими полнятся плетенки,
Что ивяным подобны - столь же тонки,
До гнутых ручек; их несут гостям,
Чтоб всяк себе чело возмог украсить сам.
Вот Ламия, вот Ликий, вот мудрец
Какой кому из них дадим венец?
Пристоен деве, не весьма счастливой,
Змеевник, что с плакучей свился ивой;
А юноше - из Вакховой лозы
Венок, дабы в преддверии грозы
Он забытье вкусил; но с кипарисом
Пускай сплетутся тернии на лысом
Ученом темени! Любое диво
От философии бежит пугливо!
Вот радугу в лазури зиждет Бог
Но семь волшебных красок в каталог
Внесли и волшебство сожгли дотла.
Философ свяжет ангелу крыла,
Определит размер чудес и вес,
Очистит от видений грот и лес,
Погубит радугу - все так же, как
Понудил кануть Ламию во мрак.
Сидевший рядом Ликий, горд и рад,
К невесте приковал надолго взгляд;
Но вот, опомнясь, кубок он берет
И спешно устремляет взор вперед,
Через пространный стол, дабы вознесть
Фиал вина во здравие и в честь
Наставнику седому. Но философ
Застыл недвижней каменных колоссов
И созерцал невесту не мигая,
И меркла, что ни миг, ее краса благая.
И Ликий нежно руку деве жмет.
Бледна рука и холодна как лед
И мраз протек у юноши по жилам;
Но стала вдруг рука сродни горнилам,
И в сердце Ликию ввергает угли...
"О Ламия! Да это не испуг ли?
Страшишься старца?" Но, не узнавая