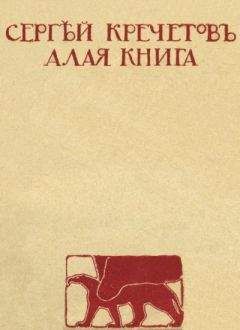Сергей Бобров - Сборник: стихи и письма
Знакомство с Брюсовым, однако, в это время не состоялось: после шестого визита на Цветной бульвар Бобров получил от его прислуги тетрадку своих стихов с короткой вежливой надписью: «К глубокому сожалению, не имею времени читать»{14}. Тем более неожиданным оказался результат встречи с Белым: «Расхвалил меня Белый. Обещал в «Весы» (!) снести мои стихи. Грр! Грр! Я готов прыгать от радости. Никогда я еще не слыхал ни от кого, что что-нибудь сделанное мной имело какую-нибудь цену. А тут...! Ах, как я рад. Если меня напечатают в «Весах», то, значит, поместят в список сотрудников. Итого «Map Иолэн», сотрудник журнала «Весы». О!{15}»
Едва ли Андрей Белый, известный крайней переменчивостью настроений (и, следовательно, оценок), был неискренен в своих похвалах; едва ли, по той же причине, можно было хоть отчасти рассчитывать на выполнение данного обещания. Но Бобров, разумеется, рассудил иначе. Вхождение в круг символистов, санкционировавшееся публикацией в «Весах», казалось ему почти свершившимся отрывом от прежней окололитературной среды: «О, если бы меня взяли в «Весы»! У меня за спиной крылья бы выросли! Я бы тогда ни в какие «Лебеди» и т.п. ни одной строчки не давал»{16}.
Отношения с Белым рисовались в этот момент в чрезвычайно идиллических тонах: «С Белым я очень сошелся. Т.е., лучше сказать, он удивительно хорошо ко мне относится. Я с ним откровенен, как ни с кем. Я его сразу полюбил. < ... >Глаза у него — до того ясные и чистые — что просто удивительно. Они всегда горят поистине светом мысли гения — и, вместе с тем, такая прелесть и нежное приятие мира — глядят в них. До сих пор я не встречал более удивительного человека. Он подарил мне свою «Урну». — III-ю книжку стихов — удивительно прелестную — с милой надписью: «Дорогому Map Иолэну в знак искреннего расположения». Милый человек!»{17}
Бобров, однако, не избежал общей участи, окружавшей издательство «Мусагет» молодежи{18}, которая видела в Белом не только непревзойденного поэта, но и духовного наставника и жестоко обманулась в своих надеждах на подлинную духовную близость"{19}. «Весы», закрывшиеся в конце 1909 г., так, разумеется, и не напечатали его стихов, а приблизительно через год, в 1910 г., неожиданно вышла в свет более чем полтора года назад отданная в «Весну» рецензия на «Все напевы» Брюсова. Вышла — и сразу попала в эпицентр разгоравшегося конфликта между Белым и Брюсовым{20}. Намного позднее Бобров характеризовал испытанные им тогда ощущения так: «Одно из самых поразительных, диких и совершенно сбивающих с панталыку явлений с молодым автором происходит как раз тоща, когда он волею судеб (по стечению обстоятельств или по собственной неосведомленности в литературной «ярмарке тщеславия») попадает как раз в ту тоненькую «нейтральную полосу», которая отделяет друг от друга враждующие литературные группы различного рода честолюбия»{21}. Л вот как описывается сама оценка ссоры с Белым в тех же воспоминаниях: «Я как-то однажды под вечер забрел в «Мусагет». Там было непривычно тихо, и я сейчас же заметил, что там как будто никого нет. Но, заглянув в дверь из передней, я увидел, что за столиком направо < ... > сидит, как-то нарочито нагнувшись над рукописью со страннохмурой физиономией, чем-то очень недовольный Белый; я вошел:
Добрый день, Борис Николаевич!
Он не поднял головы, помолчал несколько минут и сухо бросил:
Здрассте...
Чуя, что явился совсем не вовремя, что он сильно не в духе, не представляя себе, в чем тут дело, я промямлил смущенно:
Извините, Бога ради, Борис Николаевич, я вижу, Вы очень заняты, и я совсем не вовремя...
Вы? Не вовремя??
— автоматически и на истерически-высоких нотах повторил Белый без выражения, впившись вдруг в меня осатаневшим взглядом,
— а что Вы хотите, Вы, фельетонист?
Я?.. Фельетонист?
Да! Да! Вы — фельетонист!
Не сразу я смог ему что-нибудь ответить. И, собравшись с силами, еле-еле выговорил:
Прощайте, Борис Николаевич!
Повернулся и ушел»{22}.
Как можно заметить из текста публикуемых писем, похожие сцены происходили между Белым и его преданным учеником еще не раз, ослабляя и без того недостаточное взаимное доверие. В 1910 г., видимо, наступило определенное охлаждение отношений: косвенное свидетельство тому — перерыв в переписке вплоть до начала 1911 г. Разумеется, о полном разрыве речи не шло — достаточно лишь напомнить, что с апреля 1910 г. Бобров активно работает под руководством Белого в Ритмическом кружке{23}, найдя применение своему поэтическому рационализму. В то же время неизменно корректный, доброжелательный, ровный в общении Брюсов становился для Боброва (несмотря на эпизодичность контактов) важным ориентиром не только в поэзии, но и в жизни. Создававшаяся двойственность своеобразно формировала поэтическую манеру Боброва: в позднейшей (1946) автобиографии он подчеркивал, что вышедшая в 1913 г. первая книга его стихов «Вертоградари над лозами» была «написана под влиянием символистов и поэтов Пушкинской школы, которыми я усердно занимался, интересуясь русским стихом (по примеру Белого) и Пушкиным (по примеру Брюсова)»{24}. Активно (и небезуспешно) развивая историко-литературные потенции Боброва, Брюсов устроил его на работу в «Русский архив»{25}, где когда-то работал сам. Он же, снабдив Боброва литературой вопроса, заказал ему для «Русской мысли» статью об А.Рембо{26}, став ее внимательным редактором{27}. Наконец, благодаря В.Я. и И.М.Брюсовым Бобров в конце все того же 1912 г. стал секретарем Общества Свободной Эстетики.
И все же сказанное — лишь дальние подступы к объяснению того безразличия, с которым Белый отнесся к письмам, посылавшимся ему во время путешествия на Восток 1910-1911 гг. В известной мере отсутствие писем к Боброву объясняется тем, что, ведя постоянную (как деловую, так и дружескую) переписку с А.С.Петровским и Э.К.Метнером, Белый по просьбе самих же «мусагетцев», оберегавших его от переутомления, вовсе не стремился давать ответ на каждое из полученных писем{28}. Главное, однако, заключалось и не в этом: пе имея вразумительной информация о делах «Мусагета», с большим трудом и крайне нерегулярно получая оттуда письма и деньги{29}, Белый чувствовал себя отстраненным от дел издательства и досадовал на незначительность сообщаемой ему информации: «Вот уже три с половиной месяца я не имею ни одного официального сведения о «Мусагете». Пять раз мне писали об одном и том же: в середу такую-то С.Соловьев читал в «Мусагете» о Дельвиге. И по крайней мере па пять вопросов моих, о том, какие фельетоны получены, не получал ответа. Хоть бы десять раз мне писали о реферате Соловьева, все-таки 10 уведомлений о Соловьеве не равны одному уведомлению о том, должен ли Бугаев 1000 рублей или 150 из реально отработанных, но пока находящихся в рукописях деньгах»{30}, — писал Белый 14 марта 1911 г. А.С.Петровскому. В том же письме приводится составленный Белым полусерьезный реестр новостей, полученных из Москвы: «Вот компендиум того, что знаю о «Мусагете». Сергей Соловьев читал реферат о Дельвиге (корреспонденты: Сизов, Киселев, Эллис, Соловьев, Бобров, Ахрамович (кажется и еще кто-то). Далее — «Мусагет шествует спокойно и гордо» (корреспонденция Соловьева). Что спокойно, то знаем (выпустили за 4 месяца лишь Стигматы) <Stigmata — поэтический сборник Эллиса. — К.П>, что гордо... Боюсь: не гордость ли успокоения. Далее «Эллис бунтует» (я тоже бунтую) (Сизов). Далее Штейнер-Штейнер Штейнер-Штейнер (Бобров). Было судилище бедной Станевич (Станевич). Ритмический кружок в пятый раз переделывает работу о ямбе (Дурылин), в Москве носится безмерно-радужный блеск (корреспондент Сизов). Летим — обратно, к августу (корреспондент Сизов). Педерасты укрепились в эстетике (Соловьев). Иванов торжествовал (Сизов). Иванов ушел несолоно хлебавши (Соловьев). Эрн читал «О введэнском и дэыонах (sic!)» (Соловьев).
Все это очень интересно, но, право, понять того, что делается в «Мусагете», по этим сведениям нельзя».{31}
В этом перечне роль написанного Бобровым, как видно, не очень-то велика и значима: отчасти он повторяет уже сказанное другими, отчасти — противоречит самому Белому, о чем хотелось бы сказать подробнее.
Один из наиболее существенных парадоксов, характеризующих пребывание Боброва в кругу символистов, состоял в том, что, едва попав в «Мусагет» и всеми силами стремясь приблизить свои поэтические опыты к символистскому канону (прежде всего по образцам Белого), в теории он с самого начала вступил в осторожную, но непреклонную борьбу с символистской доктриной. Первая же предназначенная для «Трудов и дней» статья — «О лирической теме» — скорее представляла из себя программу новой поэтической школы (не замедлившей вскоре появиться), нежели варьировала символистские тезисы, что, впрочем, заметил и сам Бобров: «Пишу статью < ... > о лирике. Она выходит все же очень искусственной и априорной. И боюсь, что отдаляюсь от символизма»{32}.