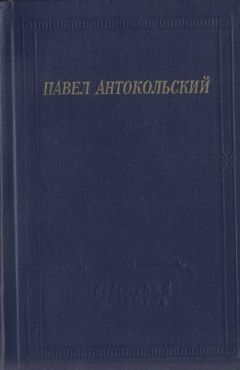Ван Вэй - Стихотворения
Укрощен твоим созерцаньем источающий яд Дракон. - Буддийские монахи-отшельники, погружаясь в созерцание, стремились уничтожить в себе все страсти и желания, всякое стремление к жизни. Поэт сравнивает человеческие страсти с ядовитым драконом, заимствуя этот образ из буддийской священной книги "О нирване".
Изнываю от жары. - "Ворота Сладчайшей Росы". - Ван Вэй имеет в виду буддийское учение.
Г. О. Монзелер
^TВАН ВЭЙ В ПЕРЕВОДАХ А. А. ШТЕЙНБЕРГА^U
ПОЭТ И ВРЕМЯ {*}
{* Воспроизводится по изданию: Ван Вэй. Стихотворения / М.: "Худ. лит-ра", 1979. - Прим. сост.}
Более полувека минуло от той поры, как в 1923 году мне, шестнадцатилетнему тогда подростку, довелось прочесть в третьей книге журнала "Восток" удивительное произведение, называвшееся "Тайны живописи", древний китайский кодекс, с гениальной убедительностью переведенный ныне покойным академиком В. М. Алексеевым.
Я и сейчас не в силах спокойно его перечитывать, неведомо в который раз, а тогда он просто ошеломил меня и околдовал - на всю жизнь. В нем открылись мне не только тайны живописи, но и тайны поэзии, и вообще - тайны всякого искусства. И Ван Вэй, предполагаемый автор кодекса, живший на другом конце света, 1200 лет тому назад, и его переводчик В. М. Алексеев, мой современник, стали для меня учительными и родными; они доказали мне, что для искусства, связующего людей, нет преград - ни в пространстве, ни во времени, что самые глубокие различия языков, культур и мировоззрений - преодолимы.
Уже очень давно я задумал: в будущем, пусть - отдаленном, попытаться переложить русскими стихами и издать поэтический сборник Ван Вэя. Но как это осуществить, не зная китайского языка, не умея читать и понимать иероглифы?
Исподволь начал я торить окольную дорогу к танскому художнику и поэту; обнаружилось, что для этого есть немало возможностей.
Живопись не нуждается в словах и понятна без знания языка, а китайская пейзажная живопись, проникнутая пафосом бесконечного пространства и этим странно родственная зрелой европейской пейзажной живописи XVI-XVII-XVIII столетий, открывает надежный путь к Ван Вэю. На этом пути моими водителями были: все тот же трактат "Тайны живописи", позже - трактат "Слово о живописи из сада с горчичное зерно", переведенный, прокомментированный и изданный Е. В. Завадской, и ее же прекрасная книга "Эстетические проблемы живописи старого Китая" и многие другие.
Я пристально вчитывался в переводы Л. 3. Эйдлина, впервые доказавшие на деле реальную, полноценную возможность русских переложений древних китайских стихов. Я постепенно прочел и посильно усвоил многое из того, что можно прочесть в переводах о Китае - его истории, философских и религиозно-философских системах, мифологии, фольклоре; познакомился с классической прозой, историческими сочинениями и некоторыми философскими и эстетическими трактатами и т. д.
Все это позволило мне, до известной степени, приблизиться к пониманию мира высококультурного, утонченного танского чиновника-ученого и подготовиться к осуществлению заветного замысла.
И, наконец, мне исключительно повезло: судьба свела меня с В. Т. Сухоруковым, много лет изучавшим творчество Ван Вэя и согласившимся сотрудничать со мной. Благодаря его глубоко понятым прозаическим переводам стихов Ван Вэя, обширным комментариям к ним и безотказным устным советам я смог приступить к работе и закончить ее.
x x x
Китайская иероглифическая письменность коренным образом и принципиально отличается от европейской, основанной на буквах алфавита, слагающихся в слова. Иероглиф "многослоен", он заключает в себе понятие, которое может быть словесно обозначено и произнесено на любом языке; например, японцы, пользующиеся иероглифами, могут их прочесть по-японски, не зная китайского языка. Кроме того, сложные иероглифы составлены из более простых элементов, имеющих каждый свое значение и определенным образом влияющих на восприятие читающего. И, наконец, сама внешняя форма иероглифа несет эстетическую нагрузку, бесконечно много говорящую образованному китайцу.
Китайское стихотворение в первую очередь "созерцается" и лишь потом "читается" и "произносится". Каждый иероглиф пятизначного или семизначного стихотворения имеет кроме общего и самостоятельное значение. Он как бы стоит не только в строке, но и отдельно и окружен неким локальным, хотя и условным, пространством молчания. Вместе с тем китайские стихи рифмованы и построены на одинаковых концевых созвучиях, на монориме, конечно - в произнесении. Европейская рифма не только слышна, но и видна; китайская только слышна. Передать европейскими, в частности русскими, стихотворными средствами китайскую версификацию невозможно, тем более что китайский язык односложен и русская пяти- и семисловная строка в несколько раз длиннее китайской.
Я воспользовался системой, предложенной в свое время академиком В. М. Алексеевым и утвержденной впоследствии творчеством Л. 3. Эйдлина: передавать иероглиф значащим, понятийным русским словом, не считая союзов, предлогов и т. д.
При этом, само по себе, возникает некое подобие ритма, которое можно усилить и упорядочить, сообразно с приемлемой русской просодией, обратив в своеобразный паузник; строка делится неравномерно: в пятисловных стихах цезура после второго или третьего слова, в семисловных - после третьего или четвертого. Такую систему я нарушаю очень редко и лишь когда этого настоятельно требуют неумолимые законы русского языка и стихосложения.
Мои переложения рифмованы, но от монорима я, конечно, отказался. Свободное расположение рифм в предлагаемых переводах нисколько не копирует рифмы Ван Вэя, но служит лишь для большего приближения стихов к русскому читателю и должно быть рассматриваемо как допустимая вольность переводчика.
x x x
Стихи Ван Вэя и его друга Пэй Ди (см. приложение) могут показаться в первом приближении как бы написанными ни о чем, незавершенными отрывками некоего целого, утаенного от читателя. Однако это не так.
Ван Вэй и другие поэты его круга, в том числе Пэй Ди, были сторонниками учения Чань. Не вдаваясь в подробности изложения этого в высокой степени своеобразного ответвления буддизма, что выходит не только за рамки настоящего послесловия, но и далеко превышает возможности его автора, все же необходимо хотя бы кратко осветить эстетику Чань, без чего творчество Ван Вэя и Пэй Ди не может быть в удовлетворительной степени оценено.
Чань отводит главную роль внезапному, мгновенному озарению, просветлению - перед умозрением, созерцанию и медитации - перед рациональным изучением. Чань полагает, что мысль невыразима словом, а вся истина заключена в моменте истины. Тютчевское: "Молчи, скрывайся и таи..." и "Мысль изреченная есть ложь" - как нельзя лучше и концентрированней излагают чаньское понимание преимущества молчания перед словом; пустой, ничем не зарисованной, незакрашенной поверхности бумаги или шелка перед штрихом, пятном и мазком; одноцветной черной туши перед многокрасочной пестротой.
Средь путей живописца тушь простая выше всего. Он раскроет природу природы, он закончит деянье Творца.
Так начинается трактат Ван Вэя "Тайны живописи". Молчание окружает каждый иероглиф, молчанием окружено и все стихотворение.
Чаньский поэт призывает читателя к сотворчеству. Над стихотворением надо остановиться, заглянуть в глубину собственной души и услышать отзвук на скупые слова-знаки: "вода", "тростник", "горы", "птицы", "одинокая переправа", "глухой городок"... Перед читателем стоит отнюдь не легкая задача: стать самому поэтом и художником одновременно, превратить внутренним зрением-прозрением слова в живую, становящуюся реальность. Вода должна заструиться, тростник закачаться, а над крышами городка - заклубиться дым.
"...Он раскроет природу природы, он закончит деянье Творца". Читатель повинен довершить и довоплотить замысел поэта. Только в таком сотворчестве возникает неисчерпаемое, как электрон, многомерное, а может и безмерное, истинное содержание крохотного стихотворения.
Старая сосна проповедует мудрость,
и дикая птица выкрикивает истину.
Таков Чань.
Но стихи слагаются из слов, а не из молчания, и потому значение слова в таком немногословии во много раз повышается. Слово должно стать драгоценным, как драгоценен материал каждого мазка Рембрандта, Констебля, Врубеля. Напряженная духовность художника придает одухотворенность краске, маслу, лаку, одушевляет косное вещество, делает драгоценным. Нечто подобное происходит со словом в стихах чаньского поэта. Слова, их начертание, смысл и звук, долженствующие вызвать голос молчания, дабы отступить в тень перед могуществом этого голоса, подлежат особому отбору и, прибавлю, - особому прочтению и восприятию. Ведь голос молчания - это внутренний голос читателя. Выразить все это в русских переложениях - немыслимо. Понимаю, конечно, что мои стихи лишь слабый, затуманенный образ оригинала. Но "feci quod potui" сделал, что мог.