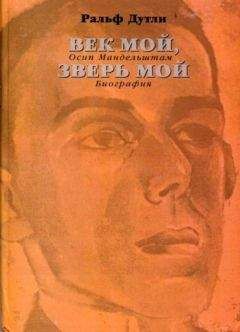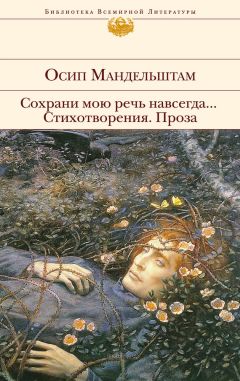Осип Мандельштам - Век мой, зверь мой (сборник)
У российского символизма были свои Вергилии и Овидии, у него же были и свои Катуллы, не столь по возрасту, сколь по типу творчества. Здесь следует упомянуть о Кузмине и Ходасевиче. Это типичные младшие поэты со всей свойственной младшим поэтам чистотой и прелестью звука. Для Кузмина старшая линия мировой литературы как будто вообще не существует. Он весь замешан на пристрастии к ней и на канонизации младшей линии, не выше комедии Гольдони и любовных песенок Сумарокова. В своих стихах он довольно удачно культивировал сознательную небрежность и мешковатость речи, испещренной галлицизмами и полонизмами. Зажигаясь от младшей поэзии Запада, хотя бы Мюссе, – новый «Ролла», – он дает читателю иллюзию совершенно искусственной и преждевременной дряхлости русской поэтической речи. Поэзия Кузмина – преждевременная старческая улыбка русской лирики.
Ходасевич культивировал тему Боратынского: «Мой дар убог, и голос мой негромок» – и всячески варьировал тему недоноска. Его младшая линия – стихи второстепенных поэтов пушкинской и послепушкинской поры – домашние поэты-любители, вроде графини Ростопчиной, Вяземского и др. Идя от лучшей поры русского поэтического дилетантизма, от домашнего альбома, дружеского послания в стихах, обыденной эпиграммы, Ходасевич донес даже до двадцатого века замысловатость и нежную грубость простонародного московского говорка, каким пользовались в барских литературных кругах прошлого века. Стихи его очень народны, очень литературны и очень изысканны.
Напряженный интерес ко всей русской поэзии в целом, начиная от мощно неуклюжего Державина до Эсхила русского ямбического стиха – Тютчева, предшествовал футуризму. Все старые поэты в ту пору, приблизительно перед началом мировой войны, показались внезапно новыми. Лихорадка переоценки и поспешного исправления исторической несправедливости и короткой памяти охватила всех. В сущности, тогда вся русская поэзия новой пытливости и обновленному слуху читателя предстала как заумная. Революционная переоценка прошлого предшествовала созидательной революции. Утверждение и оправдание настоящих ценностей прошлого столь же революционный акт, как создание новых ценностей.
Но, к величайшему сожалению, память и дело быстро разошлись, не пошли рука об руку. Будущники и пассеисты очень быстро очутились в двух враждующих станах. Будущники огульно отрицали прошлое; однако это отрицание было не чем иным, как диетой. Из соображений гигиены они запрещали себе чтение старых поэтов или читали их под сурдинку, не признаваясь в этом публично. Точно такую же диету прописали себе и пассеисты. Я решаюсь утверждать, что многие почтенные литераторы до последнего времени, когда они были к этому вынуждены, не читали своих современников.
Казалось, никогда еще история литературы не показывала такой непримиримой вражды и непонимания. Какая-нибудь вражда классиков с романтиками – детская игра по сравнению с развернувшейся в России пропастью. Но очень скоро подоспел критерий, позволяющий разобраться в страстной литературной тяжбе двух поколений: кто не понимает нового, тот ничего не смыслит в старом, а кто смыслит в старом, тот обязан понимать и новое. Все несчастье, когда вместо настоящего прошлого с его глубокими корнями становится «вчерашний день». Этот «вчерашний день» – легко усваиваемая поэзия, отгороженный курятник, уютный закуток, где кудахчут и топчутся домашние птицы. Это не работа над словом, а скорее отдых от слова.
Границы такого мира, уютного отдохновения от деятельной поэзии, сейчас определяются приблизительно Ахматовой и Блоком, и не потому, чтобы Ахматова или Блок после необходимого отбора из их произведений оказались плохи сами по себе, ведь Ахматова и Блок никогда не предназначались для людей с отмирающим языковым сознанием. Если в них умирало языковое сознание эпохи, то умирало славной смертью.
Это было то, «что в существе разумном мы зовем – возвышенной стыдливостью страданья», а никак не закоренелая тупость, граничащая с злобным невежеством их присяжных критиков и поклонников. Ахматова, пользуясь чистейшим литературным языком своего времени, применяла с исключительным упорством традиционные приемы русской, да и не только русской, а всякой вообще народной песни. В ее стихах отнюдь не психологическая изломанность, а типический параллелизм народной песни с его яркой асимметрией двух смежных тезисов, по схеме: «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Отсюда двустворчатая строфа с неожиданным выпадом в конце. Стихи ее близки к народной песне не только по структуре, но и по существу, являясь всегда, неизменно «причитаниями». Принимая во внимание чисто литературный, сквозь стиснутые зубы процеженный, словарь поэта, эти качества делают ее особенно интересной, позволяя в литературной русской даме двадцатого века угадывать бабу и крестьянку.
Блок – сложнейшее явление литературного эклектизма, – это собиратель русского стиха, разбросанного и растерянного исторически разбитым девятнадцатым веком. Великая работа собирания русского стиха, произведенная Блоком, еще не ясна для современников и только инстинктивно чувствуется ими как певучая сила. Собирательная природа Блока, его стремление к централизации стиха и языка, напоминает государственное чутье исторических московских деятелей. Это властная, крутая рука по отношению ко всякому провинциализму: все для Москвы, то есть в данном случае для исторически сложившейся поэзии традиционного языка государственника. Футуризм весь в провинциализмах, в удельном буйстве, в фольклорной и этнографической разноголосице. Поищите-ка ее у Блока! Поэтически его работа шла вразрез с историей и служит доказательством тому, что государство языка живет своей особой жизнью.
В сущности, футуризм должен был направить свое острие не против бумажной крепости символизма, а против живого и действительно опасного Блока. И если он этого не сделал, то лишь благодаря внутренне свойственным ему пиетету и литературной корректности.
Блоку футуризм противопоставил Хлебникова. Что им сказать друг другу? Их битва продолжается и в наши дни, когда нет в живых ни того, ни другого. Подобно Блоку, Хлебников мыслил язык как государство, но отнюдь не в пространстве, не географически, а во времени. Блок – современник до мозга костей, время его рухнет и забудется, а все-таки он останется в сознании поколений современником своего времени. Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии. Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе – железнодорожный мост или «Слово о полку Игореве». Поэзия Хлебникова идиотична – в подлинном, греческом, неоскорбительном значении этого слова.
Современники не могли и не могут ему простить отсутствия у него всякого намека на аффект своей эпохи. Каков же должен был быть ужас, когда этот человек, совершенно не видящий собеседника, ничем не выделяющий своего времени из тысячелетий, оказался к тому же необычайно общительным и в высокой степени наделенным чисто пушкинским даром поэтической беседы-болтовни. Хлебников шутит – никто не смеется. Хлебников делает легкие изящные намеки – никто не понимает.
Огромная доля написанного Хлебниковым – не что иное, как легкая поэтическая болтовня, как он ее понимал, соответствующая отступлениям из «Евгения Онегина» или пушкинскому: «Закажи себе в Твери с пармезаном макарони и яичницу свари». Он писал шуточные драмы – «Мир с конца» и трагические буффонады – «Барышня-смерть». Он дал образцы чудесной прозы – девственной и невразумительной, как рассказ ребенка, от наплыва образов и понятий, вытесняющих друг друга из сознания. Каждая его строчка – начало новой поэмы. Через каждые десять стихов афористическое изречение, ищущее камня или медной доски, на которой оно могло бы успокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень.
Как бы для контраста, рядом с Хлебниковым насмешливый гений судьбы поставил Маяковского с его поэзией здравого смысла. Здравый смысл есть во всякой поэзии. Но специальный здравый смысл – не что иное, как педагогический прием. Школьное преподавание, внедряющее заранее известные истины в детские головы, пользуется наглядностью, то есть поэтическим орудием. Патетика здравого смысла есть часть школьного преподавания. Заслуга Маяковского в поэтическом усовершенствовании школьного преподавания – в применении могучих средств наглядного обучения для просвещения масс. Подобно школьному учителю, Маяковский ходит с глобусом, изображающим земной шар, и прочими эмблемами наглядного метода. Отвратительную газету недавней современности, в которой никто ничего не мог понять, он заменил простой здоровой школой. Великий реформатор газеты, он оставил глубокий след в поэтическом языке, донельзя упростив синтаксис и указав существительному почетное и первенствующее место в предложении. Сила и меткость языка сближают Маяковского с традиционным балаганным раешником.