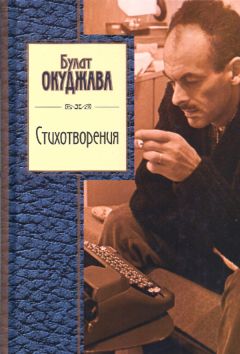Булат Окуджава - Надежды маленький оркестрик
2. Гончар
Красной глины беру прекрасный ломоть
и давить начинаю его, и ломать,
плоть его мять, и месить, и молоть…
И когда остановится гончарный круг,
на красной чашке качнется вдруг
желтый бык – отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых…
Царь, а царь, это рыбы раба твоего,
бык раба твоего… Больше нет у него ничего.
Черный нищий, поющий во имя его,
от обид обалдевшего раба твоего.
Царь, а царь, хочешь, будем вдвоем рисковать:
ты башкой рисковать, я тебя рисовать?
Вместе будем с тобою озоровать:
Бога – побоку, бабу – под бок, на кровать?!
Царь, а царь, когда ты устанешь из золота есть,
вели себе чашек моих принесть,
где желтый бык – отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых…
3. Раб
Один шажок
и другой шажок,
а солнышко село…
О господин,
вот тебе стожок
и другой стожок
доброго сена!
И все стога
(ты у нас один)
и колода меда…
Пируй, господин,
до нового года!
Я амбар – тебе,
а пожар – себе…
Я рвань, я дрянь,
меня жалеть опасно.
А ты живи праздно:
сам ешь, не давай никому…
Пусть тебе – прекрасно,
госпоже – прекрасно,
холуям – прекрасно,
а плохо пусть —
топору твоему!
«Человек стремится в простоту…»
Человек стремится в простоту,
как небесный камень – в пустоту,
медленно сгорает
и за предпоследнюю черту
нехотя взирает,
но во глубине его очей,
будто бы во глубине ночей,
что-то назревает.
Время изменяет его внешность.
Время усмиряет его нежность,
словно пламя спички на мосту,
гасит красоту.
Человек стремится в простоту
через высоту.
Главные его учителя —
Небо и Земля.
Эта комната
К. Г. Паустовскому
Люблю я эту комнату,
где розовеет вереск
в зеленом кувшине.
Люблю я эту комнату,
где проживает ересь
с богами наравне.
Где в этом, только в этом
находят смысл
и ветром
смывают гарь и хлам,
где остро пахнет веком
четырнадцатым
с веком
двадцатым пополам.
Люблю я эту комнату
без драм и без расчета…
И так за годом год
люблю я эту комнату,
что, значит, в этом что-то,
наверно, есть, но что-то —
и в том, чему черед.
Где дни, как карты, смешивая —
грядущий и начальный,
что жив и что угас, —
я вижу, как насмешливо,
а может быть, печально
глядит она на нас.
Люблю я эту комнату,
где даже давний берег
так близок – не забыть…
Где нужно мало денег,
чтобы счастливым быть.
«Ты – мальчик мой, мой белый свет…»
Оле
Ты – мальчик мой, мой белый свет,
оруженосец мой примерный.
В круговороте дней и лет
какие ждут нас перемены?
Какие примут нас века?
Какие смехом нас проводят?..
Живем как будто в половодье…
Как хочется наверняка!
Тиль Уленшпигель
Красный петух. Октябрь золотой. Тополь серебряный.
Разве есть что на свете их перьев, и листьев, и пуха
целебнее?
Нужно к ранам (вот именно) к свежим (естественно)
их приложить…
Если свежие раны, конечно, вы успели уже заслужить.
Это пестрое, шумное, страстное нужно с рассвета и
затемно
собирать, и копить, и ценить, и хранить обязательно,
чтобы к ранам (вот именно) к свежим (естественно)
их приложить…
если свежие раны, конечно, вы успели уже заслужить.
Как трудны эти три работенки: Надежда, Любовь и
Пристрастие.
Оттого-то, наверно, и нет на земле работенки
прекраснее.
Вот и самые свежие раны неустанно дымятся во мне…
Потому что всегда и повсюду только свежие раны
в цене.
Счастливчик Пушкин
Александру Сергеичу хорошо!
Ему прекрасно!
Гудит мельничное колесо,
боль угасла,
баба щурится из избы,
в небе – жаворонки,
только десять минут езды
до ближней ярмарки.
У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и все ему просто:
жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.
Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!
Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.
Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.
Он умел бумагу марать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.
Житель Хевсуретии и белый корабль
Агафон Ардезиани, где ж твоя чоха?
Пьешь кефир в кафе, и кофе пьешь, и вновь – работа…
А затея на бумаге, как строка стиха,
так строга и так тиха под каплями пота.
Ты корабль рисуешь белый, грубый человек!
Ты проводишь кистью белой по бумаге белой.
Час проходит, как мгновенье, два мгновенья – век,
каждый взмах руки и кисти стоит жизни целой.
Горец бредит кораблями: руки – в якорях.
Тянет тиною от пашен, песен и подушек.
Ходит в булочниках лекарь, пекарь – в токарях.
Сто дорог с собою кличут – одна из них душит.
Белый-белый, как береза, борт у корабля.
Белый, как перо у чайки. Он воды коснется…
Чей-то сын веселый утром встанет у руля:
«Ты прощай, земля!..» – и рыба под водой проснется.
Сядет твой отец убитый в тот корабль живой.
Капитан команду вскрикнет. И на утре раннем
побегут барашки белые над самой головой
вслед надеждам, вслед тревогам, вслед воспоминаньям.
«Мой город засыпает. А мне-то что с того?..»
Мой город засыпает. А мне-то что с того?
Я был его ребенком, я нянькой был его,
я был его рабочим, его солдатом был…
Он слишком удивленно всегда меня любил.
Он слишком отчужденно мне руку подавал,
по будням меня помнил, а в праздник забывал.
И если я погибну, и если я умру,
проснется ли мой город с печалью поутру?
Пошлет ли на кладбище перед заходом дня
своих счастливых женщин оплакивать меня?
…Но с каждым днем все чище, все злей его люблю
и из своей любови богов своих леплю.
Мне ничего не надо, и сожалений нет:
со мной моя гитара и пачка сигарет.
«Вселенский опыт говорит…»
Б. Слуцкому
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.
Март великодушный
У отворённых у ворот лесных,
откуда пахнет сыростью, где звуки
стекают по стволам, стоит лесник,
и у него – мои глаза и руки.
А лесу платья старые тесны.
Лесник качается на качкой кочке
и все старается не прозевать весны
и первенца принять у первой почки.
Он наклоняется – помочь готов,
он вслушивается, лесник тревожный,
как надрывается среди стволов
какой-то стебелек неосторожный.
Давайте же не будем обижать
сосновых бабок и еловых внучек,
пока они друг друга учат,
как под открытым небом март рожать!
Все снова выстроить – нелегкий срок,
как зиму выстоять, хоть и знакома…
И почве выстрелить свой стебелек,
как рамы выставить хозяйке дома…
…Лес не кончается. И под его рукой
лесник качается, как лист послушный…
Зачем отчаиваться, мой дорогой?
Март намечается великодушный!
«Мы приедем туда, приедем…»
М. Хуциеву
Мы приедем туда, приедем,
проедем – зови не зови —
вот по этим каменистым, по этим
осыпающимся дорогам любви.
Там мальчики гуляют, фасоня,
по августу, плавают в нем,
и пахнет песнями и фасолью,
красной солью и красным вином.
Перед чинарою голубою
поет Тинатин в окне,
и моя юность с моею любовью
перемешиваются во мне.
…Худосочные дети с Арбата,
вот мы едем, представь себе,
а арба под нами горбата,
и трава у вола на губе.
Мимо нас мелькают автобусы,
перегаром в лица дыша…
Мы наездились, мы не торопимся.
Мы хотим хоть раз не спеша.
После стольких лет перед бездною,
раскачавшись, как на волнах,
вдруг предстанет, как неизбежное,
путешествие на волах.
И по синим горам, пусть не плавное,
будет длиться через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну.
И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем нашу родину снова,
но уже для самих себя.
«Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем…»