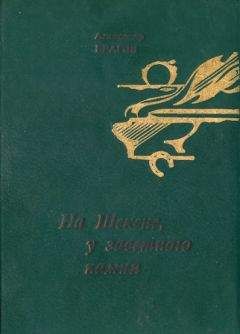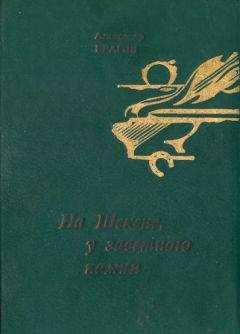Алексей Евтушенко - Третья Твердь
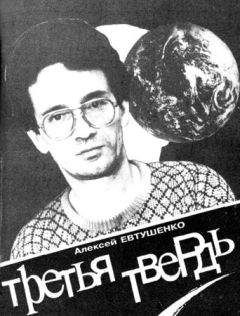
Обзор книги Алексей Евтушенко - Третья Твердь
Алексей Евтушенко
ТРЕТЬЯ ТВЕРДЬ
книга стихов и песен
ОКЕАН
Но я существую. Во тьме осторожной, в надежде на злое прощенье храню безъязыкое пламя, процесс превращенья в живое, настойчивый танец молекул. Ах, дождь, что падет как возмездье за долгое непослушанье! В созвездиях низкое небо со мною в разлуке. Так что же, и ветер – мой друг торопливый и вечный бродяга – утихнет, уляжется между волнами в нежнейшее ложе, и я успокоюсь? Но где нам до неба! Замедленный шепот восходит к поверхности теплой. И если б не солнце, не звезды…
Так бредил Океан. Весь в пене и ветрах.
Причуды облаков и звезды отражая,
Искала берега его вода живая —
Рождение и смерть оставить на песках.
И вольные валы за другом друг бегом
Торопятся вперед, от мощи сатанея.
Дай хоть одну скалу, куда бы биться лбом!
Базальтовую твердь, чтобы сразиться с нею…
О, если б не солнце, не звезды, не грозы, что враз разрывают на клочья пугливые волны! Они бы исчезли напрасно – мои непутевые дети, частички густеющей пены. Еще бы не страшно – разбиться о скалы! Подальше ползите, вставайте, шатаясь, и в жадности нетерпеливой, схвативши зубами собрата, простите отныне и присно. За воздух и тяжесть. За солнце и звезды, и грозы простите.
Но я существую.
Так бредил Океан,
приподымая дно.
Долины гулкие
и молодые горы
вздымались из воды…
Нет, зацветут не скоро
печальные цветы
моей земли родной.
На мелководье дня
из темной глубины —
в прибой. И с грохотом
на берег окаянный.
Прислушайся к речам ночного Океана,
и наши имена в них прозвучать должны.
Мы вместе были там
в один и тот же век.
Я помню вонь болот
и знаю сны растений.
И силуэт врага,
и гибель поколений.
И первый сиплый крик,
и первый тяжкий бег
Но я существую. Прощайте навеки, мои осторожные сестры – деревья и звери, и птицы. Мы вместе терпели когда-то. Теперь же громадное небо над нами повисло, качается – глыба. Сейчас упадет. Для спасенья ни песен, ни крови не жалко. Хватило бы сил, и дорога была бы достаточно длинной, и гибель достаточно скорой.
Мне трудно в бумажном обличье двуногого глупого брата вершить приговор ненавистный.
За слабость меня полюбите и рвите на части за силу.
Так бредил я, когда владыка-Океан
Встревожено бродил по эластичным венам,
Так я стоял один – спокойный великан,
Веселый сын Земли, в дубравах по колено.
Мне некуда ступить, – вот город, вот село,
Вот озеро в лесу, вот поле с урожаем…
Стоял как памятник. Прозрачный как стекло.
И ветры всех степей мне сердце остужали.
Печалится прибой, ласкает берега.
И утихает бред. И остывает сердце,
Не суетливый бог меня оберегал,
Когда я к цели шел сквозь пекло и снега,
А строгие глаза моих единоверцев.
В серокрылой печали твоих неулыбчивых глаз,
В одиноком огне искушенных Любовями губ
Отражается август-бродяга, и кто-то из нас
Неуверенно ждет, потому что любим, но не люб.
Кто поверит, что сосны стартуют в тревожный зенит?
Кто поверит, что сосны стартуют в тревожный зенит,
Выдирая корявые корни с тоской из песка
Там, где чья-то струна в безнадежной отваге звенит,
И гниющее море отравлено плещет у скал.
И дельфины на берег бросаются, словно на дот.
И дельфины на берег бросаются, словно на дот,
Умирая достойно, но все же о море скорбя.
За обещанной вещью построится завтра народ,
А рентгены сегодня ему лейкоциты дробят.
Что ж ты плачешь, любимая, словно я маленький бог?
Что ж ты плачешь, любимая, словно я маленький бог?
Ты, наверное, снова партнера сменила себе.
Злые стрелы Эрота летят в окровавленный бок.
Не достали до сердца… Что ж, лакуна будет в судьбе.
И красивая мать постареет на девичий век.
И красивая мать постареет на девичий век.
Будет нянчить ребенка и внуком его называть…
Я-то знаю, в кого вырастает потом человек —
Обучают умеющих плакать отлично стрелять.
Не в мишень на стене, так в собрата на сотню шагов.
Не в мишень на стене, так в собрата на сотню шагов,
В нищете оставляя неверных измотанных жен…
Я не вижу на плоской земле ни друзей, ни врагов,
Хоть до малой дождинки окружающий мир отражен
В серокрылой печали твоих неулыбчивых глаз.
ИСПОВЕДЬ
Когда в покинутый мой дом
ворвется мокрый листопад,
уснуть с гитарою вдвоем
последним сном я буду рад.
Я, неуживчивый с любой
и неуступчивый с любым,
кто нес, как тяжкий крест, любовь
под небом ярко-голубым.
Бродяга, грешник и поэт,
умевший в жизни лишь одно —
любить друзей прошедших лет.
Еще – хорошее вино.
Еще, конечно, ровно три
я знал аккорда наизусть
и в пекло утренней зари
швырял тоску свою и грусть.
Когда ж под вечер уставал
от беготни, от суеты,
гитару нежно в руки брал
и пел про поздние цветы.
Я пел во мраке и во зле
про женщин, осень и печаль…
И если б снова жизнь начать,
я стал бы кленом на земле.
Чтоб корни жадно грызли грунт,
и крона небо берегла,
и чтоб с ветвей, как с верных струн,
сорваться кривда не смогла;
и в час, когда умрет мой друг,
охапку огненной листвы
швырнуть, как яростный испуг,
в дом, полный тесной пустоты.
Когда в покинутый мой дом
ворвется мокрый листопад…
ПЕЧАЛЬНЫЙ ВАЛЬС
Третий день тепло, третий день тепло,
осень юная постучит в стекло,
не спеша войдет в нашу комнату…
С кем здесь, милая, не знакома ты?
Вот поэт сидит – он в тебя влюблен.
Вот художник спит – он вином пленен.
Вот мой сын гремит погремушкою.
Вот и я с женой, как с подружкою.
Проходи, садись, будь сыта-пьяна,
мы тебе нальем зелена вина.
Вместе с нами пей. Вместе с нами пой.
Где еще ты сыщешь покой?
Как прикованы у стола сидим,
хоть никто из нас нынче не судим —
голь веселая, перекатная…
Боль душевная, предзакатная.
Мы одной судьбой крепко связаны
и Любовями, и рассказами,
и безвременьем, и безденежьем, —
лишь гитару мы держим бережно.
Нам позволено разговаривать.
На востоке вновь тлеет зарево —
то ли солнышко, то ли кровушка…
Не боли наутро, головушка!
Так и вертится шар наш крошечный, —
судьбы – вдребезги, люди – в крошево.
А художник спит: "Красота спасет…",
а поэт хрипит: "Пронесет…"
Помоги же нам, осень теплая, —
полпути уже мы протопали.
Седина в кудрях и в глазах печаль…
В чашке медленно стынет чай.
ХУДОЖНИК
С.Тимофееву
Он просит карандаш и плотный лист бумаги
И, не найдя в душе протеста и причин,
Бросается в огонь фантазии с отвагой,
С которой Страшный Суд пробудят трубачи.
Наверное, и Бог был музыкантом добрым, —
Он долго обучал владению трубой
Отборных лабухов. Он вдалбливал подробно
Как "зорю" им играть, "атаку" и отбой.
Подъем! Подъем! Подъем! Но это все потом.
А нынче – кровь чернил и ватман белый-белый,
Оберточная рвань, фломастер, как цветок,
Засохший от любви в стакане с "Изабеллой",
Нахальный нервный штрих и солнечный мазок.
И мы уже вошли в закрашенное место
На плоскости листа, на зеркале холста…
Как нам просторно тут! Как персонажам тесно..,
Но выключен огонь. И комната пуста.
Ах, шестистопный ямб! Он мне еще позволит
И ближних возлюбить, и недругам воздать.
Восходит жуть в душе, – так в небо мезозоя
Вползает медленно сверхновая звезда.
Восторженная жуть… Природа созерцанья
Отныне такова, что трудно разобрать:
Где кружка на столе, где камень мирозданья,
Но он талантлив – мой коллега, друг, собрат.
Повесьте свой топор в прокуренном подвале, —
Там светится в углу оконченная явь.
Вы, жители вещей, когда-нибудь видали
Как Лету в октябре одолевают вплавь?
Я предано хожу на службу ежегодно —
Жену поцеловать и втиснуться в трамвай…
Стоит, как часовой, дождливая погода.
Покрикивает век: "Давай! Давай! Давай!"
ПЕСЕНКА УЛИЧНОГО ХУДОЖНИКА
С.Тимофееву
Потрепанный этюдник,
в нахальстве не откажешь.
Приобретайте, люди,
портреты и пейзажи!
Карандашом и маслом,
пастелью и гуашью,
чтоб никогда не гасли
надежды в душах ваших!
Я продаю, я продаю,
я продаю себя.
Не предаю, не предаю
друзей из-за рубля.
Купите же, купите же
мои больные сны.
Не выдержать, не выдержать,
не выжить до весны!
Изображу достойно ваш облик безупречный.