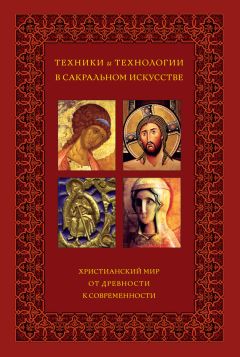Антология - Русский романс
Посчитали было романс песней особого предназначения и особого художественного качества, как тут же оказалось, что романс — больше самого себя. Им может быть при определенном повороте мысли драма, рассказ.
Углубились в романсное слово, а оно стало музыкой, которая сама по себе — отдельно — только и ждала, чтобы ее словесно рассказали, досказали.
Считали романс поэтической и музыкальной классикой, как вдруг оказалось, что «профессионализм» и «совершенство форм» — дело десятое.
Рассуждая о романсе, жили в России; а оказались в Испании и Персии, на холмах печальной Грузии среди ночной мглы. И только потом, с еще большей силой, вновь внимали светлой печали русского романса.
Заглянули было послушать романсные элегии в изысканные музыкальные салоны и гостиные девятнадцатого, как в те же салоны вдруг влетела простая, общедоступная песня.
Обращение к этимологии обнаружило новые границы — филологического, языкового свойства. А погружение в историю выявило жанровую неопределенность романса как явления музыкально-поэтического.
Анализ конкретных текстов обнаружил внутреннюю диалогичность жанра, необходимость второго голоса, предположенного первым голосом лирического героя лично-всеобщих перипетий любовного события.
Говорили о другом, а сказали все-таки о романсе. Думали о романсе, а прикоснулись к личному, человеческому существованию, которое в безромансном своем бытии неполно, ущербно.
* * *Романс как общекультурная человеческая ценность, необходимый фрагмент человеческого существования представляет собой естественное сочетание достоверности и мечты. Он — воплощенное чаяние. Даже если тот, кто слушает романс, в преклонном возрасте, то и тогда он возьмет у романса свое: чаяние предстанет как бывшее в молодые годы («Были когда-то и мы рысаками…»). Больше того. Романс дает иллюзию достижимости недостижимого.
Русский романс есть феномен национальной культуры, но феномен особого рода. Он обладает свойством быть в ней и одновременно как бы выходить за ее пределы, являя своеобразное свершение времен отдельной человеческой судьбы — помня о прошлом, зовя в будущее, сполна свидетельствуя об иллюзорно осуществленном «красиво-страдательном» настоящем.
Русский романс — это живой лирический отклик души народа, творящего свою героическую историю.
Вадим РАБИНОВИЧ«Меня любила ты — я жизнью веселился…»
Становление жанра
Поэты XVIII — начала XIX века
ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ
(1681–1736)
1. Плачет пастушок в долгом ненастьи[20]
Коли дождусь я весела ведра
и дней красных,
Коли явится милость прещедра
небес ясных?
Ни с каких сторон света не видно —
все ненастье.
Нет и надежды. О многобедно
мое счастье!
Хотя ж малую явит отраду
и поманит,
И будто нечто полготить стаду,
да обманет.
Дрожу под дубом; а крайним гладом
овцы тают
И уже весьма мокротным хладом
исчезают.
Прошел день пятый, а вод дождевных
нет отмены.
Нет же и конца воплей плачевных
и кручины.
Потщися, боже, нас свободити
от печали,
Наши нас деды к тебе вопити
научали.
ВАСИЛИЙ ТРЕДИАКОВСКИЙ
(1703–1768)
2. Песенка любовна
Красот умильна!
Паче всех сильна!
Уже склонивши,
Уж победивши,
Изволь сотворить
Милость, мя любиты
Люблю, драгая,
Тя, сам весь тая.
Ну ж умилися,
Сердцем склонися;
Не будь жестока
Мне паче рока:
Сличью[21] обидно
То твому стыдно.
Люблю, драгая,
Тя, сам весь тая.
Так в очах ясных!
Так в словах красных!
В устах сахарных,
Так в краснозарных!
Милости нету,
Ниже привету?
Люблю, драгая,
Тя, сам весь тая.
Ах! я не знаю,
Так умираю,
Что за причина
Тебе едина
Любовь уносит?
А сердце просит:
Люби, драгая,
Мя поминая.
3. Плач одного любовника, разлучившегося с своей милой, которую он видел во сне
Ах! невозможно сердцу пробыть без печали,
Хоть уж и глаза мои плакать перестали:
Ибо сердечна друга не могу забыти,
Без которого всегда принужден я быти.
Но, принужден судьбою или непременной,
И от всея вечности тако положенной,
Или насильно волей во всем нерассудной,
И в порыве склониться на иное трудной.
Ну! что ж мне ныне делать? коли так уж стало.
Расстался я с сердечным другом не на мало.
Увы! с ним разделили страны мя далеки,
Моря, лесы дремучи, горы, быстры реки.
Ах, всякая вещь из глаз мне его уносит,
И кажется, что всяка за него поносит
Меня, сим разлученьем страшно обвиняя,
И надежду, чтоб видеть, сладку отнимая.
Однак вижу, что с ними один сон глубоки,
Не согласился; мнить ли, что то ему роки
Представлять мила друга велели пред очи
И то в темноту саму половины ночи!
Свет любимое лице! чья и стень[22] приятна!
И речь хотя мнимая в самом сне есть внятна!
Уже поне[23] мне чаще по ночам кажися
И к спящему без чувства ходить не стыдися.
АЛЕКСАНДР СУМАРОКОВ
(1717–1777)
4. «Уже восходит солнце, стада идут в луга…»[24]
Уже восходит солнце, стада идут в луга,
Струи в потоках плещут в крутые берега.
Любезная пастушка овец уж погнала
И на вечер сегодни в лесок меня звала.
О темные дубравы, убежище сует!
В приятной вашей тени мирской печали нет;
В вас красные лужайки природа извела
Как будто бы нарочно, чтоб тут любовь жила.
В сей вечер вы дождитесь под тень меня свою,
А я в вас буду видеть любезную мою;
Под вашими листами я счастлив уж бывал
И верную пастушку без счету целовал.
Пройди, пройди скоряе, ненадобной мне день,
Мне свет твой неприятен, пусть кроет ночи тень;
Спеши, дражайший вечер, о время, пролетай!
А ты уж мне, драгая, ни в чем не воспрещай.
МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ
(1711–1765)
5. «Ночною темнотою…»[25]
Ночною темнотою
Покрылись небеса,
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.
Внезапно постучался
У двери Купидон,
Приятный перервался
В начале самом сон.
«Кто так стучится смело?» —
Со гневом я вскричал;
— «Согрей обмерзло тело, —
Сквозь дверь он отвечал. —
Чего ты устрашился?
Я — мальчик, чуть дышу,
Я ночью заблудился,
Обмок и весь дрожу».
Тогда мне жалко стало,
Я свечку засветил,
Не медливши нимало,
К себе его пустил.
Увидел, что крилами
Он машет за спиной,
Колчан набит стрелами,
Лук стянут тетивой.
Жалея о несчастье,
Огонь я разложил
И при таком ненастье
К камину посадил.
Я теплыми руками
Холодны руки мял,
Я крылья и с кудрями
Досу́ха выжимал.
Он чуть лишь ободрился,
«Каков-то, — молвил, — лук?
В дожде, чать, повредился».
И с словом стрелил вдруг.
Тут грудь мою пронзила
Преострая стрела
И сильно уязвила,
Как злобная пчела.
Он громко засмеялся
И тотчас заплясал:
«Чего ты испугался? —
С насмешкою сказал, —
Мой лук еще годится:
И цел и с тетивой;
Ты будешь век крушиться
Отнынь, хозяин мой».
МИХАИЛ ХЕРАСКОВ