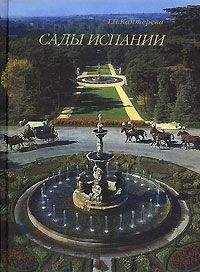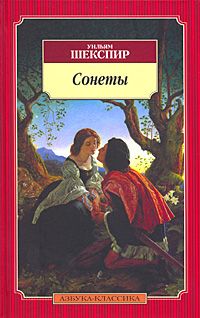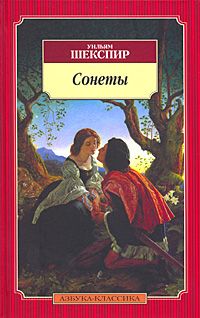Уильям Шекспир - Все сонеты Шекспира
XXXVII
Как иногда отец полуседой
на сыновей с улыбкою глядит,
так счастлив я, изломанный судьбой,
что честью ты и правдой знаменит.
Но знатность, красоту, избыток сил —
все качества, какими напоказ
ты коронован, — я себе привил,
любовью приумножив твой запас.
И я уже не бедный, не больной,
поскольку тень любви воплощена
в такой богатый клад, что небольшой
его частицы хватит мне сполна.
Во мне найдётся всё, чем ты богат,
и я тебя счастливее стократ.
XXXVIII
Какой для Музы надобен предмет,
когда дыханья твоего волна
столь нежно в мой вливается сонет,
что и бумага для неё черна?
Скажи себе спасибо, если мной
ты был достойным образом воспет.
Тот глуп, кто не почтит тебя строфой,
когда ты даришь вдохновенья свет.
В сто раз достойней древних девяти
Камен, что славит каждый рифмоплёт, —
десятой Музой стань, чтобы найти
я мог в стихах бессмертье и почёт.
Но люди, оценив мой слабый труд,
тебя — а не меня — превознесут.
XXXIX
Как мне тебя восславить, если ты
я сам и есть, но лучший, чем я сам?
Как я могу хвалить свои черты?
И как я не себе хвалу воздам?
Мы потому-то и разделены,
свою любовь единой не зовём,
что всё, чему на свете нет цены,
я должен отыскать в тебе одном.
Никто разлуки бы не перенёс,
когда бы мрачной праздности дурман
нам не дарил часов для сладких грёз,
вводя и грёзы, и часы в обман.
Разлука учит, раскроив нам грудь,
хвалить того, кто вышел в долгий путь.
XL
Ты все, мой друг, возьми мои любви,
но ты и так от них неотделим;
и всю любовь с моей отождестви,
когда моё становится твоим.
И если взял ты из любви ко мне
мою любовь, тебя я не виню,
а если нет, то по своей вине,
упрямец, угодил ты в западню.
Тебе прощая нежный твой грабёж,
я делаюсь беднее во сто крат.
Но ведь любви предательская ложь
язвит больней, чем ненависти яд.
Распутный друг, в ком зло добру под стать,
убей меня — врагами нам не стать.
XLI
Твоей свободы милые грешки, —
когда в душе ты мне даёшь отбой, —
твоим летам и внешности близки,
но и соблазн крадётся за тобой.
Ты незлобив — и сам идёшь в полон,
прекрасен ты — и нежным штурмом взят.
Желаниями женщин окружён,
сын женщины не выдержит осад.
Ты мог бы пощадить меня и сам
своей беспутной юности назло.
Меж тем пристрастье к буйным кутежам
тебя к двойной измене привело.
Обманут я любимой и тобой,
и красота твоя всему виной.
XLII
Ты взял её — не плачу я навзрыд,
хотя в неё безумно был влюблён;
она тебя взяла — и я убит:
разрыв с тобой наносит мне урон.
Обижен вами, я ваш адвокат:
ты любишь ту, кого любил твой друг;
любя меня, она мне дарит ад;
а друг мой скорбно делит с ней досуг.
Я не с тобою — в барышах она;
меня с ней нету — друг мой на коне:
те, чей союз я оплатил сполна,
меня распяли из любви ко мне.
Но если друг — моё второе «я»,
то мне верна изменница моя.
XLIII
Закрыв глаза, я вижу всё, а днём
обзор им закрывает всякий вздор;
я проницаю тьму, забывшись сном,
когда пронзит её твой светлый взор.
Светлеет ночи тень в твоей тени,
чей образ служит счастья образцом,
но пусть глаза, невидящим сродни,
с утра твоим засветятся огнём.
Они блаженны будут, если я
тебя увижу днём, а не в ночи,
когда в мой сон слепая тень твоя
моим глазам незрячим шлёт лучи.
Тебя не видя, сплю я наяву,
а стоит увидать, — во сне живу.
XLIV
Когда бы глупой плоти вещество
вместилось в мысли, я бы трудный путь,
простёртый до предела твоего,
назло пространству мог перепорхнуть.
Где б ни был я, в каком краю земли,
какие бы моря ни пересёк,
к тебе меня бы мысли привели
быстрей, чем мысль, пронзившая висок.
Но я не мысль и на подъём тяжёл:
во мне земли с водой невпроворот.
Я без тебя тоскою изошёл,
и только время слёзы мне утрёт.
И символ плоти — мой печальный стон —
из плотных элементов сотворён.
XLV
Но прочих два, — прозрачны и чисты, —
огонь и воздух — шлю тебе вдогон:
во-первых, мысли; во-вторых, мечты
в твои края летят со всех сторон.
Когда к тебе несутся, жизнь моя,
послы любви — две сущности вещей,
две остальных мне не дают житья,
сжимая грудь кручиною своей.
И до тех пор мой жизненный каркас
не восстановит всех первооснов,
пока послы, связующие нас,
не скажут мне, что жив ты и здоров.
Тогда я рад, но вновь тоской объят,
и тут же шлю своих послов назад.
XLVI
Мои глаза с моим же сердцем бой
затеяли — чему виной ты сам:
глаза хотят присвоить образ твой,
а сердце не даёт его глазам.
Приводит сердце веский аргумент,
что ты — в груди, незримый для зениц.
Глаза же говорят, что оппонент
солгал, и ты укрыт в тени ресниц.
По иску сердца завершив процесс,
решил присяжных размышлений суд,
что стороны, учтя свой интерес,
по равной доле у тебя возьмут:
Глаза — твои наружные черты,
а сердце — свет сердечной красоты.
XLVII
Глаза, изголодавшись по тебе,
и сердце, разрываясь от тоски,
забыли о своей былой борьбе
и подружились распрям вопреки.
Твой нежный образ — пиршество для глаз,
зовущих сердце в гости, а в гостях
глаза пируют в следующий раз,
когда ты сердцу явишься в мечтах.
Итак, моя любовь и твой портрет
и без тебя со мной наедине.
Летят мои мечты тебе вослед,
а ты при них, пока они при мне.
А если спят мечты, — глаза не спят
и в сердце будят образ твой и взгляд.
XLVIII
Как я старался, покидая дом,
убрать все побрякушки в сундуки,
чтобы нажиться на добре моём
рукам недобрым было не с руки.
Зато зеницу ока моего —
то, что дороже самых жемчугов, —
тебя, мои печаль и торжество,
оставил я приманкой для воров.
От них тебя не спрячешь в сундуке:
со мною ты, хотя тебя здесь нет, —
укрыт в груди моей, как в тайнике,
но можешь выйти запросто на свет.
Во мне столь ценный клад, что и святой
из-за него решится на разбой.
XLIX
Настанет срок (едва ли он далёк),
и поразит меня твой хмурый вид;
и, подводя моим грехам итог,
твоя любовь закроет мне кредит;
настанет день, и солнце глаз твоих
не отличит меня среди людей,
найдя в исходе склонностей былых
причину отчуждённости своей;
настанет час, когда я присягну, —
в ничтожестве собой изобличён, —
что я вменяю всё себе в вину
и что на стороне твоей закон.
Забыть меня — есть повод не один,
а полюбить навеки — нет причин.
L
Легко ли — завершить свой путь дневной
и вдруг, уже на ложе возлежа,
понять, что между другом и тобой
на мили увеличилась межа?
Меня и горе тяжкое моё
скакун понурый медленно влачит,
как будто говорит ему чутьё,
что в одиночку я не фаворит.
В крови от шпор, мой взмыленный одёр
не думает скакать во весь опор,
но хриплый стон животного остёр
и душу ранит пуще всяких шпор.
В тоске я мчусь куда глаза глядят,
но радуюсь, когда гляжу назад.
LI
Так извинял я глупого одра
за то, что не хотелось скакуну
меня от друга увозить вчера…
Но если я обратно поверну
и мне галоп покажется рысцой,
пускай пощады эта тварь не ждёт.
Я даже ветер, будь он подо мной,
пришпорил бы, погнав его в полёт.
Хотя какой рысак бы ни трусил
наперекор желаниям моим,
его простил бы мой любовный пыл,
что вскачь несётся, с клячей несравним.
Я уезжал — был шаг её не скор,
а к другу — сам помчусь во весь опор.
LII