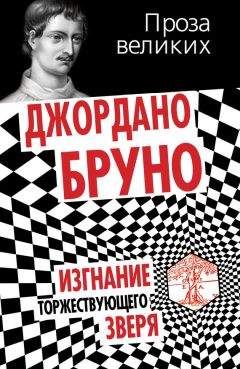Юрий Гречко - Паром через лето
В отечестве синих небес,
в оконце болотной воды
шумел, запрокинувшись, лес,
мерещился холод звезды.
Бреду от куста до куста
под скрипы попутных телег,
минуя грибные места
и гать из березовых слег.
И чую смущенной душой,
что в тихо густеющей мгле
толики тепла небольшой
уже не хватает земле.
Выходит, настала пора
вернуться в пустое жилье
и явной работе пера
все тайное вверить свое.
Веселые мысли внушать
о долгой зиме впереди,
холодным простором дышать
до колющей боли в груди.
Талое озеро среди ландшафта,
гнезда пустые в роще вороньей.
Кажется, вброд переходит ольшаник
тихое небо с дорогою вровень.
Словно бы камень литографический
кто приложил к снегам ноздреватым,
чтобы явился рисунок травинки
с завязью ландыша, что назревает.
Все невозможней пуститься обратно,
будто корнями в тебя поврастали
заросли эти и свет из дубравы,
где колея почернела местами.
Долго метался и колобродил,
не согревали кумиры чужие.
Может, и были они благородней,
но ни один — непросохшей ложбиной.
Ни одного не помянешь отныне —
стоит шагнуть на дощатую кладку,
шарик рябины и воздух теплыни
под языком ощутив, как облатку.
В районной гостинице, дивно пустой,
сегодня встаю на постой.
Случайный сосед заглянул невзначай,
к себе зазывая на чай.
И чтобы дорожный блюсти этикет,
я снедь собираю в пакет —
подсохший за долгие сутки езды
набор холостяцкой еды.
Блаженно застолье январских ночей
при свете казенных свечей.
«Какие снега!..» — возглашает сосед
прелюдию долгих бесед.
О эти беседы в средине зимы,
в которых участвуем мы —
невольники службы и черной пурги,
что крутит — ив окнах ни зги.
О чем — не упомню… Скорее всего —
о музыке века сего,
о жизни и смерти, схлестнувшихся вдруг
стремительней вольтовых дуг.
Он Пушкина чтит и, почти нараспев,
на койку присесть не успев,
«Послания» выплеснет горечь и гнев,
внезапно лицом побледнев.
…С поленьев сосновых стекает янтарь.
Качаются тени, как встарь.
Плывет безрассудное пламя свечи.
Трубят егеря–усачи.
По тракту тобольскому вьюга трубит.
За картами вечер убит.
В четвертом часу упадает из рук
горячий и горький чубук.
Пора бы давно прокричать петуху…
Закутан в медвежью доху,
с крыльца ледяного, курчав, невысок, —
сбегает в дорожный возок.
Грохочут платформы.
Ползут зачехленные пушки.
Тяжелое солнце склонилось в пустой березняк…
Проснусь на разъезде.
Услышу,
как в щелях теплушки
поет темнота
и свистит азиатский сквозняк.
И сердце сожмется
в предчувствии жизни и славы,
как будто бы снова нам машут и машут вдогон
под вскрики гармоник
на станциях целой державы,
откуда уходит на малых парах эшелон.
Дневальный в печурке шурует смолистым
поленом.
Над дальнею стрелкой горит семафора рубин —
последняя искра
в порядке Вселенной нетленном,
когда засыпаешь, уткнувшись щекой в карабин…
Боярышник светит рассеянно
на склоне вечерней зари.
И корень, как шнур из розетки,
тянется из земли.
Лампу забыли серебряную
в комнате на столе.
Тихо прошли под деревьями
по глинистой колее.
Оглядывались и все видели,
бредя по сонным полям, —
свет этот удивительный
во глубине полян.
Если верно,
что комната — это портрет постояльца,
узнавай меня
в хламе обоев и в книжной пыли,
в разговорах с тобою,
которые не состоятся,
в состояньях бессонниц,
куда бы они ни вели.
Узнавай меня
в скрипе сухих половиц под ногами,
в стуке старых часов,
в повороте дверного ключа,
в сквозняке через дом,
в этой непритязательной гамме,
что сыграет гроза,
где‑то в дальней степи грохоча.
И в дороге сквозь лес узнавай,
и в коричневой дымке,
и в тени
от копны свежескошенных вянущих трав,
в тонких нитях слюды,
что плетут пауки–невидимки,
проявляя в работе
спокойный старушечий нрав.
И–когда свечереет
и длинные тени из сада
сквозь веранду потянутся
легкой, бесшумной чредой —
узнавай меня в пенье рожка,
пробудившего стадо
у недвижной реки,
под зеленой горячей звездой.
И, узнав наконец,
торопливо сбегай по ступеням,
и, смеясь или плача,
мне руки навстречу тяни…
Ночью ветер в саду прошумит
и смешается с пеньем
темноты,
окружающей дом, погасивший огни.
Уже не зима,
и природа души благосклонна
к смешению звуков,
к явленью высоких чудес,
когда, оекользаясь на глине,
сбегаю по склону
в прозрачный и мокрый,
пронизанный трелями лес.
И слышу с обрыва
глухого лесного оврага,
что голос небес
надо мною предельно высок,
и в глинистом русле
бушует прозрачная влага,
и в жилах деревьев
бушует коричневый сок.
Я так осторожен
и так неуклюже галантен
с кизиловой веткой!
Но капли безбожно вкусны
и сыплются щедро,
лишая ненужных гарантий
опять не влюбиться
и выйти сухим из весны.
Художник под елью
высокую ставит треногу,
свистит потихоньку
и пишет лесную дорогу.
Посмотрит под ноги —
ромашка цветет, подорожник.
Он с них начинает.
Такой аккуратный художник.
Он краски мешает
и больше всего озабочен
лиловым репейником —
маленьким чудом обочин.
Он слышит,
как ветер играет с кустом молочая,
движение листьев
за двадцать шагов различая.
Осенний стожок перед ним,
как божок невысокий,
встает, подбоченясь,
из зарослей желтой осоки.
И близость реки
он в лесной духоте ощущает —
край пестрой палитры
под ультрамарин очищает.
Чернеет обитель,
грохочет пустая телега,
подкова в пыли —
словно давешний след печенега.
На красном песке
просыхают зеленые сети.
Паром подвигается
к левобережью Исети.
Художник торопится,
красок ему не хватает:
он к чистому цвету
большое пристрастье питает.
Темнеет, светает…
Кончается осень однажды,
но не утоляет
мучительной творческой жажды.
Художник, художник!
Полжизни на это убудет.
И может случиться,
что кто‑нибудь нас не забудет
и тоненькой кистью
потянется к краскам отважно.
И солнце его ослепит…
Остальное — не важно!
Средь осени, в пустом уже лесу,
средь теплого рассеянного света,
когда‑нибудь отважившись на это,
я ваше имя вслух произнесу.
Средь осени нечаянно усну
и стану видеть новыми глазами
за вашим светлым именем, за вами —
ладонь дождя, прильнувшую к окну.
Наступит время сказок и чудес,
вокзалов, писем, выдумок волшебных
для вас и для меня, уже вошедших
средь осени в пустой и грустный лес.
В лесу задувает осенний сквозняк,
дожди протяженней и чаще.
Последний костер, как таинственный знак,
мигает в березовой чаще.
Последний костер означает — зима
в короткие сроки наступит.
Холодная ясность и трезвость ума
любые затраты окупит.
Забудется все, что не пахло теплом,
скитаньем по лесу и хлебом.
И острое зренье под новым углом
займется остуженным небом.
Пространство под тяжестью белых щедрот
увязнет в блистательном быте,
долина продолжит естественный ход
естественных зимних событий…
Наверное, нужен особый словарь
для нашей мучительной связи,
когда еще только светлейший январь
выходит в светлейшие князи.
И музыкой вьюги, и блеском свечей
подскажет застолье немое,
что праздник, который наступит, — ничей
и елка прекрасна зимою.
Пусть белая вата означит сугроб,
горбатый, как свернутый парус,
и древо запахнет, как сладкий укроп,
и с веток прольется стеклярус.
Дай бог не расстаться со зреньем детей,
чтоб видеть не с черного хода
неясную им подоплеку затей
на проводах старого года,
чтоб новою блажью упилась душа
как будто ни в чем не бывало:
следить за снегами, почти не дыша,
сквозь стеклышко в форме овала…
Опять и светло и пустынно.
Соломою ветер шуршит,
как будто забыли пластинку
и шорох снимают с души.
Вы бродите полем окрестным
в подпалинах рыжей стерни;
нет музыки в вашем оркестре —
остались пюпитры одни.
И птица летит вертикально,
и вы замечаете вдруг,
что узкое небо стекает
на землю из ковшика рук…
Сладко думать о былом.
Ничего не позабыто:
печь с малиновым теплом,
две свечи — подробность быта;
иней выступил в пазах
между бревен почернелых,
вьюги призраки — в глазах
у окошек очумелых.
От крылечка до угла,
от зимовья до поселка —
ослепительная мгла,
бесконечная поземка.
Чай с рябиной, черствый хлеб,
пир на скатерти бумажной.
Сколько мне сегодня лет —
мне пока еще неважно.
Мне семнадцать. Или так:
восемнадцать. То и дело
мне мерещится литфак
краевого академа.
И районная печать
отвечает мне неловко,
что нездешняя печаль
хороша, когда у Блока…
Поляны старые покинуты.
Черна дороги полоса.
Осенней радиоактивностью
пустые светятся леса.
Колеблющимся продолжением
неимоверной высоты
стоят озера порыжелые,
по грудь вошедшие в кусты.
За переправою паромною,
ступая на сырой песок,
узнаешь ли свою прародину
от рощицы наискосок?
И горьковатый дым отечества,
и тихий холодок земли,
где как весы стоят аптечные
колодезные журавли?..
Пока костер, дыша углями, жил,
в логу за косогором ухал филин,
ручей гремел средь каменных извилин
и эхо отдаленное будил
в ночном лесу. Пока костер, дыша
углями, покрывался слоем пепла,
ночь безнадежно старилась и слепла.
Потом, когда багровый лунный шар
в ущелье заглянул, все стало резко
очерчено тенями. Лишь костер,
дыша углями, был туманно стерт,
как временем разрушенная фреска.
(Протяжной монотонностью цикад
так надолго и крепко заворожен,
я ждал, когда, ступая осторожно,
роса начнет кропить отлогий скат
горы.) А рядом фыркали ежи,
и сотни звезд, процеженных сквозь ели,
мелодией старинною звенели,
пока костер, дыша углями, жил.
Мне зимние птицы опять нагадали
пустую дорогу, прозрачные дали,
поляны под снегом и мерзлую глину
на склоне горы, уходящей в долину.
Лиловое пламя костра шелестело.
И небо, пропахшее дымом, летело
под кроны деревьев, под черные своды
холодным крылом небывалой свободы.
И все, что доселе невнятно звучало,
отныне февраль ледяной означало,
где опыт сомненья нашептывал ложно,
что жить бесконечно почти невозможно.
Но я‑то ведь знал, что мое прекращенье
всего лишь исходная грань превращенья
в крылатого жителя зимней долины,
клюющего кисточку мерзлой рябины.
В корявый орешник со склона оврага,
который не ведает большего блага,
чем желтое солнце на хмуром снегу…
И, руки раскинув, застыл на бегу!
Мы живы,
хоть бронза и стала
одеждою нашей навеки.
Как жилы,
под кожей земли набухают
весенние реки.
В просторе,
где небо бездонно синеет
над теплою пашней,
простое
дыхание ветра
пускай вам напомнит
о павших.
…Мы тоже
так молоды были,
когда в огневой круговерти
итожить
последней гранатой пришлось нам
свое понимание жизни
и смерти.
Паш выбор
единственным можно назвать
и никак — неразумным:
и вы бы
сумели рвануться вперед,
в ослепительный мрак амбразуры.
Россия,
мы любим тебя,
превратившись в деревья
и травы,
в росистый
кустарник обочин,
в туманный костер переправы,
в побеги
целинного хлеба,
в горячую быль магистрали,
в победы
твоих сыновей,
закаленных надежнее стали…
Нас приютил вечерний поезд
в седом от инея вагоне.
Над всем пространством обозримым
стояла снежная завеса.
II семафор, взмахнув рукою,
дал отправление погоне
за нашим будущим неясным
сквозь сумерки пустого леса.
В купе на столике транзистор
журчал негромко, в четверть силы,
так, словно нас с тобой пытался
связать хоть этой слабой нитью.
И молодая проводница
зачем‑то чай нам приносила,
звенела ложками в стаканах
и уходила: — Извините…
А вьюга ахала негромко,
дым деревень стелила понизу;
перроны станций обезлюдели,
как будто вымерзла планета.
И только сосны, сосны, сосны,
встречая нас, бежали к поезду,
и их мерцающая зелень
нас заставляла вспомнить лето…
Когда чернеет старый зимник
за бедной рощею осин,
все понимая в прежней жизни,
мы ничего не объясним.
Холодный ветер с косогора
ударит снежною крупой.
В любую сторону простора —
свобода быть самим собой.
Ее пути почти незримы,
но от толчка ее крыла
гудят овражные низины,
как тайные колокола…
I
Оглянусь, но уже никогда
не вернусь. Ничего не истрачу!..
Ледоход. И речная вода
холодна, как ночная звезда,
что сулила сплошную удачу.
Снег растает. Оттает паром.
Пронесется над соснами гром.
Дрогнут рельсы на 202–м
километре пути от Тюмени,
где мы быть молодыми умели.
Здесь палатку срывало в пургу
и, как птицу, несло на Сургут
над болотами, над бездорожьем.
Мы брели по колено в снегу,
понимая, что больше не можем,
и никто не сказал: — Не могу!..
Бригадир вспоминал про войну,
мол, бывал не в таких переделках.
Как комбат в перекрестном огне —
он живых окликал то и дело.
Матерился, зубами скрипел,
услыхав, как мы кашляем сухо.
Он бы песню под утро запел,
да не мог за отсутствием слуха.
…Нас зимовье пустое спасло.
Были спички, и спирт, и солярка.
Он кричал: — Веселее, салаги!
Недолет… Мне опять повезло…
Пили спирт под столетний сухарь.
Пили тихо, сомкнувшись плечами.
И дощатые нары качались.
И с поленьев сочился янтарь.
II
Материнская рука
так прохладна и легка!
— Значит, едешь? Бог с тобою… —
Смотрит, как издалека.
— Вот и вырос наконец.
Прямо вылитый отец:
этот смолоду рубака —
до сих пор в плече свинец.
— А тебе самой война
отпустила не сполна?
Хоронила, в бой ходила…
— Да как будто я одна…
— Но и я не одинок!
— Это правильно, сыпок.
Что ж, присядем на дорожку —
путь далек твой… Ох далек!
Материнская рука
так прохладна и легка!
Тяжелей «сего, шагалось
от ворот до большака.
Оглянулся — от плетня
крестит щепотью меня.
…Непривычною рукою,
среди бела дня…
III
Это молодость была!
Расправляла два крыла.
Дух парил. Крепчало тело.
Ни приварка, ни тепла.
На пустом материке,
на сибирском ветерке
с кораблей сгружали шпалы,
спали прямо на песке.
Это молодость!.. Опять
невозможно ночью спать:
память, как киномеханик,
прогоняет ленту вспять.
Стужа… Просека… Сургут…
Костерок в снегу раздут…
Искры в небо улетают…
Я иду! Меня здесь ждут!
IV
Мы теперь тоболяки.
По течению реки
прет колесный пароходик
под короткие гудки.
Русло сжали берега:
непролазная тайга,
деревушка, да церквушка,
да заречные луга.
Негде яблоку упасть.
Но зато — вповалку, всласть
спим на палубе, смешавшись,
как валеты, к масти масть.
Встанешь ночью — перекат,
блики лунные дрожат.
Бродит вахтенный по баку.
— Засмолим?.. Не спится, брат?
Это, брат, семнадцать лет.
Это — палубный билет
и такая, брат, свобода,
что и слов надежных нет.
…А романтики поют —
все про снег, про неуют,
про железную дорогу —
и нарзан столетний пьют.
Не спешите! В свои черед
первым снегом обожжет,
и любовь уста отверзнет,
и печаль не обойдет…
V
Бригадир считал, суров,
сколь в работе топоров,
озирая хмурым оком
необстрелянных орлов.
Мол, бород понарастят,
поживут — и улетят.
А в делянке — хоть зашейся…
Телогрейки, ишь, хрустят!
Здесь не город, не бульвар.
Просека. Лесоповал.
В самых Мазурских болотах,
где и леший не бывал.
Ну куда мне их, куда?..
В кочках хлюпала вода.
Подымалось редколесье —
ни тропинки, ни следа.
Как на линию огня,
вывел он вперед меня.
И топор ударил в комель,
синим лезвием звеня.
— Ну–ко, что вы за народ —
пусть работа разберет…
Сел и палит самокрутку,
усмехаясь наперед.
— Друг… гляди не подведи, —
буркнул кто‑то позади.
Сердце прыгнуло под горло.
Воздух кончился в груди.
Шли минуты… Как сквозь сон,
мне кричали: — Ну, силен!
Вот уже стою, шатаясь,
злою радостью спален.
Словно вынес первый бой
с беспорядочной пальбой…
— Берегись! — и мшистый комель
пронесло над головой.
Оглянулись: бригадир
по делянке уходил.
Спину в ватнике сутулил,
самокруткою чадил.
VI
Тормознул попутный МАЗ.
У парнишки точный глаз:
кто такие и откуда —
знает все шофер о нас.
— Лесорубы? Погоди:
за «Спидолами», поди?
Были утречком в раймаге,
взял для бабы… Вот, гляди.
— Ну, а много завезли?
Мы б с утра, да не могли
по ночному лезть в болото.
Черт те ж где, конец земли!
-— Что ж, поспеем… — подмигнул.
МАЗ присел — и так рванул,
что тайга слилась в полоску
и плясал в распадках гул.
…А в раймаге тишь да гладь.
Все успели разобрать.
Лишь картонные коробки
с указаньем: «Не бросать!»
Не бросать так не бросать!
Книгу жалоб исписать?
Мы в обратную дорогу
поплелись голосовать.
— Ну, прощай, шофер… — Постой…
Коли так — возьмите мой.
Да берите! Вам для дела:
знаю, как в тайге зимой.
Денег наших не считал,
хлопнул дверцей и пропал.
…Стоп–сигнал мигнул на тракте,
словно камешек опал.
VII
Сходни гнуты, ветер крут,
захлестнет волна шкафут[1] —
ну, тобольская погодка!
Брезентухи не спасут.
На зубах скрипит цемент.
Дождь сорвался — и в момент
наши робы как из камня,
хоть тащи на постамент.
Часть верхней палубы судна.
Эх, мешочки в пять пудов,
в вас цемент для городов
с голубыми площадями
в окружении садов!
Перемерзнем — не беда.
Но запомним навсегда,
сколько весят те, из песен,
голубые города.
VIII
Как прилежный ученик,
загружался стопкой книг,
шел на первое свиданье
через взлобок напрямик.
Галстук шею натирал.
Друг напутствия давал —
что сказать и как ответить.
Ни черта не понимал!
С папироской на губе
к леспромхозовской избе
я подваливал вразвалку
и стучался в дверь к тебе.
Рылся в книгах битый час,
слов исчерпывал запас,
но рубил: — В кино сегодня
пригласить позвольте вас?
Ах, какое шло кино
где‑то там, давным–давно!
Мы сидим окаменело.
В зале дымно и темно.
Зал хохочет. Пленку рвут.
Вспомни, вспомни, как зовут
эту женщину?.. Пытаюсь —
кадры глупые плывут.
IX
Заглушив бензопилу,
побрели к дымку, к теплу,
Где‑то близко в чернолесье
тюкнул дятел по стволу.
Чай артельный на костре
преет в цинковом ведре.
Кружка пальцы обжигает.
Дело к ночи, в ноябре.
Тишина‑то, тишина!
Вся тайга насквозь слышна.
Кружит голову от чая,
как от черного вина.
Друг смеется: — Эй, старик,
раскачаем материк?..
Это молодость хохочет,
отдавая век за миг.
И, непризнанный артист,
бывший школьный медалист,
на расстроенной гитаре
он наяривает твист!
(А погибнет через год,
мост спасая в ледоход.)
Ничего еще не знает.
Все поет для нас, поет…
X
Леспромхозовский оркестр
оглушил тайгу окрест.
Рвет кумач, срывает шапки
вольный ветер здешних мест.
Валит к насыпи народ.
— Лесорубы, шаг вперед! —
сипло выкрикнул начальник.
Только кто пас разберет?
Что за важность? Все рвались
сквозь тайгу, на север, ввысь,
чтоб серебряные рельсы
в эту насыпь улеглись.
Коммунисты, шаг вперед!
Камни Бреста, шаг вперед!
Днепрогэс,
Тайшет,
Магнитка —
все, что было, —
шаг вперед!
XI
Этот северный пейзаж
разве в. карте передашь!
Есть в конторе план дороги,
где маршрут отмечен наш.
Все понятно: суть важна.
Карта быть сухой должна.
Только цифры километров
четко требует она.
Ну, а если тот пунктир
ты сквозь сердце пропустил,
прорубался сквозь завалы,
тропы слегами мостил?
Если лед зубами грыз
и любил, усталый вдрызг,
если палуба взлетала
и обрушивалась вниз —
значит, молодость права!
Значит, молодость жива!
Ей — особые масштабы
и высокие слова.
XII
Сквозь сон сирена голосила.
Внизу постукивал движок.
Я спал на палубе буксира,
лицом уткнувшись в вещмешок.
Я был один! Моя планида
склонилась к перемене мест
и сигаретами платила
за безбилетный переезд.
Тайга нас тихо обтекала.
Дышала прелостью земля,
где шла последняя декада
осеннего календаря.
Прощай, таежная глубинка!
В прозрачном ельнике твоем
чернеет древняя обитель
под покосившимся крестом.
Опять учетчице чумазой,
переходя на разворот,
сигналят бешеные МАЗы
в кромешной темени болот.
Опять крепки мои ладони,
хотя мозоли и саднят.
И мысли тайные о доме
еще покоя не смутят.
И я опять знаток морошки.
И каждый вальщик мне знаком.
Мое лицо сожгут морозы —
те, что за двадцать, с ветерком!
Но за палаткой мальчик новый,
так непохожий на меня,
на лапник падает сосновый
и что‑то пишет у огня.
Светлым–светла его свобода,
и путь его неповторим.
И дым летит до небосвода,
мешаясь с облаком ночным.
Прощай!..
Я спал, укрывшись робой,
почти в низовья занесен.
Тобол и лес шумели ровно,
с винтом буксира в унисон.
Матрос расталкивал: — Подходим.
Туман промозглый и густой
стоял на гнутых досках сходен
над маслянистою водой.
Примечания