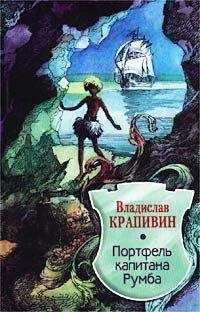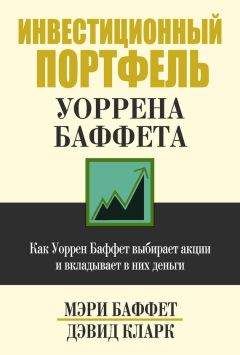Роман Перельштейн - Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
Идея ненависти, питающаяся любовью не только к дальнему, но и к ближнему, вот только понимаемому превратно, к ближнему как «своему», стара как мир. И не имеет решительно никакого значения – ставится ли во главу угла конфессиональная принадлежность, классовое происхождение или «миф крови». Идея святой ненависти, либо питающаяся «любовью к вещам и призракам», превратно, то есть утилитарно истолкованная национал-социализмом, либо питающаяся «страстной любовью к живым людям и их конкретной судьбе»[530], нашедшей адекватное выражение в революционном марксистском социализме, лежит на поверхности утопического сознания. Н. Хренов в книге «Зрелища в эпоху восстания масс» не случайно указывает на связь между марксизмом и ницшеанством: «…видение будущего по Марксу переходило в видение будущего по Ницше»[531], «вовлекаясь в революционное движение, люди, провозглашая себя марксистами, в реальности оказывались ницшеанцами, “сверхчеловеками”»[532].
Утопизм – это прежде всего вера в то, что Царство Божие сначала должно быть воздвигнуто на земле, а уже затем, автоматически, и «внутри нас». Христианский реализм идет от обратного – сначала Царство Божие создается «внутри нас», через самовоспитание духа и просветление благодатными силами[533], «а затем и везде»[534], но с одной существенной оговоркой. Какими бы назревшими ни казались социальные реформы и преобразования, они должны считаться, и это главный пункт христианского реализма, «с реальным состоянием человека, а не быть замыслом насильственной его перемены»[535]. Мень, размышляя о родоначальнике утопизма Платоне, пишет: «…пока он не покидал почвы общих размышлений относительно духовных основ общества, он был проповедником высокого идеала; лишь когда он попытался конкретизировать свою утопию, обнаружились самые зловещие черты его гражданского проекта»[536]. В «Моем друге Иване Лапшине» «проповедники высоких идеалов» выходят на поклон. Вот-вот партер опустеет, включат дежурное освещение и те же проповедники, или те, кто придет им на смену, решат без лишних колебаний и никому не нужных споров воплотить в жизнь, положившись на государственную машину как на самих себя и доверившись Кесарю как Богу, высокие идеалы добра и правды.
7.
Снимая маску, внешний человек превращается в Зверя. Таков «сюжет» этой метаморфозы. Ведь именно на природное, падшее, иррациональное, «звериное» начало человека маска, как узда, и накидывается. Сравнивать человека со зверем было бы кощунственно, вполне в духе Великого Инквизитора, который давно отказался от мысли, что человек создан по образу и подобию Божьему. Однако часть непросветленной человеческой природы под предводительством внешнего человека обращена, и тут уж ничего не поделать, к животно-земляному миру. Со стороны животного мира в человеке, биологического его начала и заходит утопист, норовя набросить на внешнего, массового человека маску, как лассо на мустанга. Люди для Платона, пишет Мень, «неудачно поставленные фигуры на шахматной доске, которые необходимо расположить в правильном порядке». Такие вот попытки расположить фигуры правильно, превратить дикого мустанга в шахматного коня для его же блага, не раз увенчивались успехом. Однако рано или поздно мустанг сбрасывал седока-гроссмейстера, тот находил смерть под его копытами, а сам мустанг, не способный свернуть, вместе с табуном, вышедшим из повиновения, летел в пропасть.
Личность способна превозмочь звериные, табунные, необузданные, эгоистичные свои порывы, прикоснувшись к тайне лица, к тайне внутреннего человека, но с этой тайной бытия утопист совершенно не знает, что делать. Он считает ее вредной и опасной блажью. Утопист подменяет тайну лица секретом маски, ухватками табунщика. Утопист считает, что достаточно внешних изменений в жизни человека, так сказать, сугубо материалистического характера, чтобы добро окончательно и бесповоротно победило в человеке. Но внешних изменений не просто мало, они – ничто без внутреннего преображения, которое не может быть следствием ни «автономной морали» Конфуция, ни палочной дисциплины Платона. Доктрина Конфуция никак не связана с религией и Откровением, его «автономная мораль» ищет основания для нравственной жизни только в человеке. Строй Платона держится на страхе перед телесным наказанием, который Платон заимствовал у Спарты и Египта. Внутреннее преображение не имеет ничего общего и с «кодексом строителя коммунизма», совмещающего в себе «автономную мораль» со страхом перед наказанием. Ни стыд перед тебе подобным, ни страх перед тебе подобным не в силах преобразить до недр, до сердцевины, до внутреннего человека. Подобный стыд и подобный страх так и останутся масками, надетыми на Зверя. «Лишь тогда, когда нравственность оказывается связанной с верой в высшее значение Добра, она опирается на прочный фундамент. В противном случае ее легко истолковать как некую условность, которую можно безнаказанно устранить со своего пути»[537], – пишет А. Мень.
Утопист уверен, что наш внешний человек поддается дрессировке, что в нем можно окончательно погасить инстинкт хищника. Увы, это не так. Более того, внешний человек обречен снять маску и тем самым приостановить дрессуру. Вопрос лишь в том, что окажется под маской – лицо или бесовский лик, внутренний человек или Зверь? Или даже, как выразился Вяч. Иванов, – «Сверхзверь»? В. Утилов, исследуя западный кинематограф ХХ в., пишет в книге «Сумерки цивилизации»: «Генетически предлагают возможность такого воздействия на личность, которое освободит и правителей и управляемые массы от инстинкта агрессии, жажды власти и насилия. Однако не стоит забывать, что о подобном рае на земле мечтал еще гётевский Фауст, а договор он заключил с Мефистофелем, и сама по себе идея принудительного освобождения личности от ее пороков высмеяна С. Кубриком в “Механическом апельсине”: ее реализация оборачивается таким же злом, как и чудовищная агрессивность Алекса»[538].
Прогресс не в силах автоматически исправить поврежденную природу «падшего человека». Человек падает еще ниже, даже не падает, а откатывается в дохристианское седое далёко, из которого ему, все равно, хочет он того или нет, придется выбираться. Заметим, что именно это и произошло в России 90-х, когда маска с нашего внешнего человека была сорвана, а лицо, медленно поднимающееся из глубины, еще не подоспело. Отсюда и причитания раба, так хорошо нам всем знакомые, ностальгия по прошлому, прошлому внешнего человека в маске. Обменяв рабство восточного образца на свободу западного образца, мы вдруг поняли, что Зверь в маске лучше Зверя без маски. Однако, если быть честными перед самими собой, следует признать, что Зверь одолим только Лицом, а не новым намордником, только сокровенным «я». В глубине души человек всегда будет мечтать о наморднике и не только для ближнего, но и для самого себя, выдавая эту мечту за идею спасения мира от зла. И там, в глубине души, на «высочайшей вершине бездны»[539] появляется Великий Инквизитор, который всегда готов прийти на помощь человеку.
Глава 5. Актер снимает маску
1.
Разговор о реальности и игре как жизненных стратегиях, первой из которых соответствует представление о лице, а второй – представление о маске, не может обойти стороной ремесла актера. Согласно Й. Хейзинги, «атмосфера драмы – это дионисийский экстаз, праздничное опьянение, дифирамбический восторг, в котором актер, находящийся по отношению к зрителю за пределами обычного мира, благодаря надетой маске словно перемещается в иное “я”, которое он уже не представляет, а осуществляет, воплощает»[540]. Взгляд Хейзинги на актерскую игру как на некий магический обряд, почти или полностью стирающий грань между актером и образом, в который он входит, разнится с концепцией Д. Дидро, изложенной в «Парадоксе об актере». Мастерство актера заключается, по мнению Д. Дидро, в умении имитировать чувства, а не предаваться этим чувствам на сцене[541]: «<…> актеры производят впечатление на публику не тогда, когда они неистовствуют, но тогда, когда они хорошо играют неистовство»[542]. Разница между дионисийским экстазом и имитацией экстаза, причем по обе стороны рампы, весьма существенна. Маска, которую надевает актер, не освобождает актера от его собственного «я». Так же как не освобождает и зрителя от собственного зрительского «я», но зато позволяет взглянуть на себя со стороны. Актер смотрит на себя глазами зрителя, а зритель – глазами актера или глазами того образа, в который актер входит, сливаясь с ним, но не вполне, не абсолютно. Н. Бердяев объединяет метаморфозу перевоплощения «я» в «ты» и тайну отражения в «другом», если не сказать больше – трактует перевоплощение как отражение: «Лицо человека хочет быть отраженным хотя бы в одном, другом человеческом лице, в “ты”. Потребность в истинном отражении присуща личности, лицу. Лицо ищет зеркало, которое не было бы кривым. Нарциссизм в известном смысле присущ лицу. Таким зеркалом, которое истинно отражает лицо, бывает <…> лицо любящего. Лицо предполагает истинное общение»[543]. Актер, надевший маску, также ищет зеркало, которое не было бы кривым, то есть равнодушным, которое верно, то есть любовно, отразило бы спрятанное за маской лицо. И это возможно. Ведь любовь видит сердцем. И зритель смотрит на себя глазами актерской маски, отражается в маске, как в лице любящего, угадывает себя, собирает себя, подмечает черты, которые жизнь утаила от него или приберегла для таких вот минут, минут «истинного общения». Такова природа диалога между зрителем и актером. Такова правда общения как таковая.