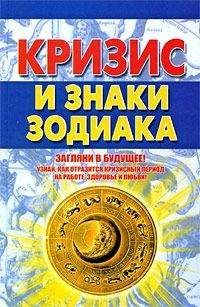Инна Соловьева - ПЕРВАЯ студия. ВТОРОЙ мхат. Из практики театральных идей XX века
Гиппиус и Максим Горький ненавидели друг друга стойко, равно как оба порознь ненавидели газету Суворина, но Горький о «Вишневом саде» писал то же еще жестче[26].
Станиславский так не думал. Но доискивался, откуда у других может сложиться такое впечатление. Доискивался, почему не рад спектаклю драматург. «…Мы осуждали себя за то, что не смогли с первого же раза показать наиболее важное, прекрасное и ценное в пьесе»[27].
В последнюю свою встречу с Чеховым Станиславский привозил автору новый макет: декорацию последнего акта «Вишневого сада» облегчали, покидаемый дом обретал прозрачность. Чехов в этот день рассказывал Станиславскому «канву своей будущей пьесы».
Станиславский пересказывал ее в интервью летом 1914-го.
Верил ли К. С. десять лет спустя после смерти Антона Павловича, что тот мог бы осуществить замысел, которым делился? «Он мечтал о новой пьесе совершенно нового для него направления… Судите сами»[28]. В финале был затертый близ полюса громадный корабль. Белый призрак женщины скользил по льдам.
Для Мейерхольда «совершенно новое для Чехова направление» виделось в уже написанном «Вишневом саде». Мейерхольд успел поставить пьесу у себя, спектакль в Камергерском увидел позже. «Мне не стало стыдно за нас»[29].
Мейерхольд писал Чехову, как «Вишневый сад» слышится ему: «Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом, прежде всего. В третьем акте на фоне глупого „топотанья“ – вот это „топотанье“ нужно услышать – незаметно для людей входит Ужас. „Вишневый сад продан“. Танцуют. „Продан“. Танцуют. И так до конца… Веселье, в котором слышны звуки Смерти. В этом акте что-то метерлинковское…»[30].
Мейерхольд спешит уверить: сравнил потому лишь, что не нашел точных слов («Вы несравнимы в Вашем великом творчестве»). И тем не менее.
Письмо, посланное из Чаадаевки (Самарская губерния) 8 мая 1904 года, адресата в Москве застало (дата отъезда в Баденвейлер – 3 июня). Оно могло подсветить фон последних встреч Чехова и К. С.
Там же в Чаадаевке Мейерхольд набрасывал ответ Зинаиде Гиппиус. Чехов отстал от шествия театра? «Нет, кажется, наоборот». Это МХТ потерял ключи к своему автору, автор же в последней своей пьесе нов и таинствен. Статья, впрочем, не дописана.
От «Вишневого сада» в постановке Товарищества новой драмы остался чертеж мизансцены третьего акта. Режиссеру – можно понять – важны замыкание «grand rond», многочисленность «топочущих». Ни у рецензентов, ни у мемуаристов подтверждающих описаний нету. По-видимому, Мейерхольд при всей его решительности напролом к своей концепции не пошел.
Но повторим предположительно: его письмо могло подсветить последнюю встречу Чехова и К. С., их сдваивавшиеся соображения о Метерлинке и о «Вишневом саде».
Станиславскому вспоминалось, будто Чехов хотел в постановке Метерлинка музыки – внефабульной, не ищущей своему присутствию оправдания[31]. Именно так она и была там введена, не принеся удачи. Но неудачи и шатания с Метерлинком целительно для себя воспринимал «Вишневый сад», медленно обретая глубинную музыкальность.
Путь к глубинной музыке был обозначен уже в режиссерском экземпляре «Вишневого сада», с годами звуковая сфера спектакля стала совершенна. По всей пьесе, подсказывала ремарка К. С., слабый треск полов, осыпается штукатурка – тут не сигнал про надобность ремонта, а что-то похожее на то, как по осени осыпается сад. В диалогах бытовые ноты не глушили музыкальности дуэтов и трио, квартетов и ансамблей. Слышные на сцене голоса действующих лиц и чуть подыгрывающие им домашние шумы оказывались словно внутри иного, несравненно большего звукового шара.
В первом акте в самом начале издалека свисток – поезд уже на станции, но к окну кинулись зря – еще надо подождать, «пока то да сё». Свисток снова слышится – один и другой, продолжительный – во втором акте (Станиславский думал дать на горизонте проход состава, дымок, но отказался, нужен был только звук издали).
«Словно где-то музыка. – Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас. – Он еще существует?» В режиссерских ремарках к этим репликам из второго акта – что-то сверх указания тому, кто ведает звуком. Раневская музыке обрадовалась. Лопахин музыки не слышит – прислушивается и не слышит. В партитуре вежливо предложено: «Временно ветер отнес звук». А возможно, это не сама музыка, это воспоминание о музыке. «Обрадовалась». «Едва слышная музыка. Далее музыку то приближает, то удаляет вечерний ветер»[32]. Раневская и Гаев слушают, чуть двигая в такт рукой.
«Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук лопнувшей струны, замирающий, печальный». Это авторское описание режиссер подчеркивает. Дополняет: кто-то звука вовсе не слышал.
«Это что? – Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко». Раневская задает вопрос, вздрогнув. Лопахин отвечает «хладнокровно, отвлекаясь на минуту от чтения» (шуршал газетой)[33].
Работа над Метерлинком обострила внимание к скрытной образности чеховского письма и остерегла от того, чтобы разрушать эту скрытность. Раневская видит в аллее покойную мать в белом, но согласится: это деревце. Если не взламывать пьесу, в ней не так уж важен утонувший до ее начала мальчик (мать спешила уехать, чтоб его забыть). Без некоторого насилия не закольцуешь эту смерть мальчика до начала пьесы со смертью после ее финала старика, забытого и заколоченного в доме. Мотив подхода смерти, мотив будущности как конца, мотив поглощающих вод и смерти, мотив беззаботности при обреченности – он, пожалуй, в «Вишневом саде» и слышится, «но где-нибудь очень далеко».
Чехов еще окажется новой задачей МХТ, которую восстановление «Чайки» в 1905 году не разрешит. Пока же неотложен вопрос: Метерлинка-то как играть?
Вопрос разворачивается шире: как соотнестись с перспективой движения искусств в новом веке. Какой обновленной театральной техникой можно добиться того, чего уже добиваются в живописи. Как быть с неразработанностью тела актера, негибкого, немузыкального, приспособленного к выражению будничных чувств, для всего же, что сверх того, имеющего «ассортимент заношенных штампов». Искания требовали «предварительной лабораторной работы. Ей не место в театре с ежедневными спектаклями, сложными обязательствами и строго расчисленным бюджетом. Нужно какое-то особое учреждение…»[34].
В «Моей жизни в искусстве» К. С. пишет, что не он, а его собеседник Всеволод Эмильевич удачно назвал необходимое им особое учреждение – «театральная студия». Однако в своей записке «К проекту новой драматической труппы…» Мейерхольд термином «студия» не пользуется. Тут нет и слова «лаборатория». Под конец энергично вводится слово «скит» – «раскольничий скит должен завтра зажечь свой костер»[35].
Любопытно, как сходятся две формулы, у Мейерхольда связанные с замыслом Поварской: «Театр Станиславского» и «раскольничий скит», скит-оппонент. Сызнова входя в МХТ весною 1905 года, увлекательно провоцируя конфликт на занятиях «Драмой жизни», дерзя против правил репетиций (вместо разбора – сразу на сцену, начинать с импровизаций и с самовыявления в образе, как образ успел мелькнуть-привидеться), он мог полагать Станиславского на своей стороне.
Мысль о Станиславском как оппоненте МХТ станет любимой мыслью Мейерхольда (он вернется к ней агрессивно, убежденно, со всей энергией интриги и театральной, и идеологической в знаменитой статье 1921 года «Одиночество Станиславского»). Но как бы ни представлял себе желания Станиславского Мейерхольд, чего бы сам он, Мейерхольд, ни хотел для себя на Поварской, Станиславскому, как выяснено всей его дальнейшей жизнью – был нужен не филиал МХТ и не новый театр, который здесь вырастал, и даже не «Театр-студия».
После ликвидации Поварской (поздняя осень 1905 года) будет июнь – июль 1906-го, финский курорт Ганге, не слишком посещаемое место, утренние прогулки к морю, труд над «системой». Рукопись пока называется «Опыт руководства к драматическому искусству». «Сидит в полутемной комнате, целый день пишет и курит… Он мне читал из своих записок, мне понравилось»[36].
Глава вторая
«Милый Сулер»
1
«…У нас была долгая беседа с ним. Дело в том, что в его жизни случилось какое-то крушение, и он стоял на перепутье между деревней и театром, между землей и искусством. Он рассказал мне всю свою необыкновенную жизнь, о которой можно написать целую книгу. Он говорил о бродяжничестве, о рыбацкой и морской жизни, о тюрьмах с одиночным заключением и отделениями для умалишенных, об отдаленной крепости, куда ссылают вместо смертной казни, о путешествиях по степям со стаями шакалов, о Льве Николаевиче и его учении, о духоборах, о жене и сыне».
Беседа Станиславского с Сулержицким состоялась по возвращении К. С. из Ганге. «Я верил в Сулера, охотно принял его предложение взять его себе в помощники»[37].