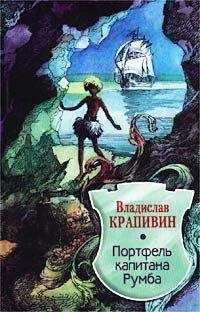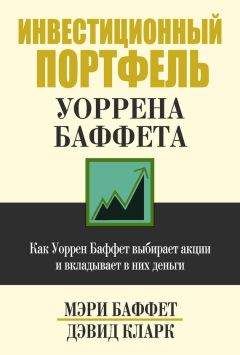Роман Перельштейн - Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
Таково противоречие между реальностью и игрой в пьесе Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» и в одноименном фильме Николса. Таково противоречие между сердцем, как одним из символов реальности, и рассудком, как одним из символов игры.
Так называемому высшему обществу претит всякий намек на непосредственность проявления чувств, на обнаружение сокрытых пружин, так как «вращение» в свете есть игра, правила которой не всегда проговариваются, они висят в воздухе, подобно запаху блюд и аромату духов. Живое чувство казнено светом. Тютчев называл этот заговор света «бессмертной пошлостью людской». Правила душат, теснят, даже если пытаются найти общий язык люди, не занимающие привилегированного положения в обществе. Об этом замечательно говорит «наивная» Настенька из «Белых ночей» Достоевского. «Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо, сейчас, не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле, как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их…»[295]
В фильме Жана Ренуара «Правила игры» (1939) авиатора, влюбленного в маркизу, подстреливают в поместье маркизы, как кролика. Это в небе авиатор Андре Жюрье – орел, а на земле он – кролик. Сцена охоты, которая предшествует маскараду и трагической нелепой гибели Андре, заканчивается агонией не символического кролика, а настоящего – трепещет хвостик и кролик медленно поджимает свои такие быстрые и, казалось бы, неукротимые лапки. Так же трепещет и сердце авиатора Андре, посвятившего свой перелет через Атлантику маркизе Кристине де ла Шене. Но Андре отвергнут маркизой, не потому что он недостаточно мужественен, а потому что он слишком искренен. «Он искренен, – говорит маркиза. – А искренние люди очень скучны». Открыв свое сердце, Андре превращается в мишень. Не подстрелить его – означает утратить инстинкт охотника. Но не таковы обитатели поместья, его хозяева, гости и челядь. Они охотники до мозга костей, охота их самая сильная страсть. Нельзя сказать, чтобы не было сердца у мужа маркизы месье Робера или у его любовницы, или у друга Андре, господина Октава. Нельзя также сказать, что бессердечна сама маркиза. Но чувства этих господ не идут дальше сцен, которые они друг другу не устают закатывать. Огонь их сердец под тончайшей стеклянной колбой лампы. Можно прибавить пламя или убавить, а почему, для чего – совершенно неважно и не нуждается в объяснениях. Единственное, что важно – играть по правилам, то есть все-таки играть, а не жить. Ложь и есть те самые правила игры. Инстинкт театральности заслоняет и чувства и разум.
Напомним позицию Бердяева в отношении концепции театральности действительности. «Социальное положение “я” всегда есть разыгрывание той или иной роли, роли царя, аристократа, буржуа, светского человека, отца семейства, чиновника, революционера, артиста и т. д. и т. п. “Я” в социальной обыденности, в обществе <…> совсем не то, что в своем внутреннем существовании. <…> И потому так трудно добраться до подлинного человеческого “я”, снять с “я” покровы. Человек всегда театрален в социальном плане. В этой театральности он подражает тому, что принято в данном социальном положении. И он сам с трудом добирается до собственного “я”, если слишком вошел в роль»[296]. Супружеская чета де ла Шене и их гости в роль вошли слишком. И выйти из нее они не могут, потому что существуют правила. Кто же отменяет эти правила? А отменяет их появившийся в поместье удалец Андре. Он ставит все с ног на голову самим фактом своего существования, одним своим беззащитным видом. Вот тут-то и начинается заваруха: объяснения, поцелуи, пальба. Словом, жизнь, настоящая и полнокровная, в которую хозяева поместья и их гости все же продолжают играть, напоминая заводные механические игрушки из коллекции хозяина поместья. Впоследствии этих господ запрет в особняке Луис Бунюэль в фильме «Ангел-истребитель» (1962), а Никита Михалков в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1979) введет в ступор русских дворян заморской игрушкой – тем самым механическим пианино из коллекции Робера. Заметим попутно, что Михалков, экранизируя Чехова, разовьет сюжетную линию Октава с его назревающей в фильме Ренуара истерикой. Но смерть Андре отменяет всяческие истерики. Первой жертвой игры без правил становится сам Андре. Только тот может умереть, кто жил. Играющий же недостоин пусть и нелепой, но трагической гибели. Андре так и не перелетел Атлантику, потому что он человек, а не машина.
4.
Игра сопряжена со страстью и одержимостью. Игра не в меньшей степени есть одержимость и страсть, чем форма досуга или инстинкт театральности.
В фильме Кэндзи Мидзогути «Сказки туманной луны после дождя» (1953) рассказывается о двух крестьянских семьях, втянутых в водоворот гражданской войны. Погруженная в туман средневековая Япония, где туманом дышит всё – и люди, и их фантазии, – становится сценой, на которой разворачиваются две человеческие драмы. Мечтающий разбогатеть крестьянин-горшечник отправляется в большой город, чтобы сбыть товар и потратить вырученные деньги на жену и ребенка. Однако внезапно крестьянин превращается в раба своей страсти: больше всего горшечнику хочется не разбогатеть, он ищет славы, признания, из его посуды могли бы есть и пить сами боги. Вот крестьянин-гончар и творит кумира, вызывает из небытия духа. Умершая девушка неземной красоты женит на себе горшечника, разум которого помутился. Горшечник одержим страстью, он на вершине блаженства: любим как никем, оценен, как никогда, но вот только он не живет, а играет. Играет в какую-то удивительную игру, которая не имеет ничего общего с его подлинной жизнью, с его прошлым, которое блекнет на фоне феерического настоящего, и лишь иногда слабо и жалобно окликает горшечника. Нет, он не слышит ни последнего стона своей жены, заколотой копьем мародера, ни плача своего сына, оставшегося сиротой.
Второй крестьянин, компаньон и родственник гончара, мечтает стать самураем. Крестьянин-земледелец до того одержим этой страстью, что удача, хотя и снисходительно, но улыбается ему. По чистой случайности, став обладателем солидного трофея – головы генерала, земледелец получает от своего покровителя всё, чего так страстно желал. Коня, свиту и почет. Сбылись мечты крестьянина – он самурай. Но в этот же день самурай встречает в публичном доме свою жену, которая, чтобы не умереть с голоду, а возможно, и назло мужу-мечтателю, который бросил ее, стала наложницей.
Но вот туман мечтаний рассеивается. Наигравшись один в бога, а другой в самурая, гончар и земледелец возвращаются к своим исконным ремеслам, в свою затерянную в горах деревушку. Вот здесь-то и вступает в свои права духовная реальность, которая однажды уже явила себя – дух умершей девушки из знатного рода и дух ее кормилицы едва не подменили реальность игрой в реальность. Однако гончар не без помощи мудреца, многое повидавшего на своем веку, сумел прозреть и разрушить чары. Духовная реальность в доме коварного призрака так смешалась с игрой, что отличить мнимое от подлинного стало невозможно. Духовная реальность так же может утратить свою подлинность, как и окружающая действительность, эмпирический мир, и только голос совести способен снять заклятие. Итак, гончар возвращается, и духовная реальность открывается ему во всей своей полноте. Гончара встречает не его жена Мияги, а добрый призрак жены. Сцена возвращения гончара – одна из самых пронзительных и щемящих в мировом кинематографе. Мияги продолжает заботиться о муже даже и по ту черту своей безраздельно ему и сыну отданной жизни. Наутро гончар понимает, что его жена Мияги отошла в мир иной, хотя и пребудет теперь с ним навеки. Сын ставит плошку с горячей похлебкой на могилу матери, как бы предлагая ей первой отведать их земной пищи.
Наш внутренний мир далеко не всегда совпадает с нашим внутренним человеком. Внутренний мир может быть себялюбивым и эгоистичным, ограниченным и приземленным. В этом случае внутренний мир, скорее, совпадает с нашим внешним человеком, являя собой подводную часть внешнего человека. Внутренний человек наделен принципиально иным бытием, которое, тем не менее, целиком и полостью опирается на наш внутренний мир, озаряя его собой и наделяя смыслом. Прибегая к метафоре, приведем две попытки изображения внутреннего человека, одна – литературная, говорящая сама за себя, другая – кинематографическая, требующая комментария. Связывает эти попытки образ пчелиного улья как метафоры глубинного бытия.
Попытка первая предпринята в романе-хронике Н. Лескова «Соборяне» (1872): «Проникнем в чистенький домик отца Туберозова. Может быть, стоя внутри этого дома, найдем средство заглянуть внутрь души его хозяина, как смотрят в стеклянный улей, где пчела строит свой дивный сот, с воском на освещение лица божия, с медом на усладу человека. Но будем осторожны и деликатны: наденем легкие сандалии, чтобы шаги ног наших не встревожили задумчивого и грустного протопопа…»[297].