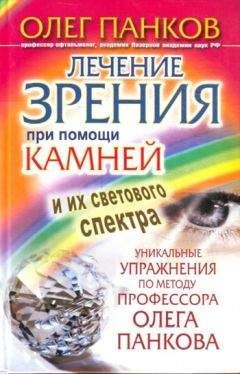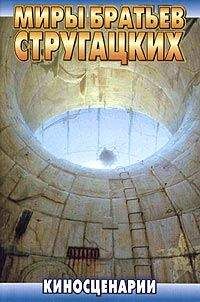Иосиф Маневич - За экраном
Я же сложил свой несложный скарб в фибровый чемодан. Правда, увозил я в Москву три сувенира. Кавказский пояс с серебряной чеканкой и маленький кинжал – подарок мастеров Кубани, привезенный мне после того, как в горный аул пришел мой очерк, и мягкие кавказские сапоги прекрасной выделки (потом я видел такие только на танцорах кабардинского ансамбля). Я долго носил их в Москве, уже в аспирантуре, и устал отвечать, где достал сапоги с такими голенищами, обтягивающими ногу. Да, самое главное. В жаркий июльский день в темной лавке сельпо я увидел несколько полушубков. Она лежали уже давно – канадские, для лесорубов, – полушубки в крае, изнывающем от жары и отсутствия леса! Путь их из Канады в Нальчик представлялся неисповедимым, а спроса на них, естественно, не было. Чабаны предпочитали заворачиваться в бурки. К радости продавца, я решил полушубок купить. Он долго примерял на меня все семь штук, имевшихся в наличии. Один был как влитой, и я вышел в белой апашке на улицу, держа под мышкой полушубок…
Итак, трофеи были втиснуты в чемодан. Жареная курица и пирожки – в корзинку. Плотная толпа друзей, почитательниц и родственников заполнила в декабре пятигорский перрон, провожая меня в Москву.
В ту пору поезда в Москву шли больше двух суток. Никаких купированных вагонов не было. Даже получить постельное белье считалось счастьем. Поезда на больших станциях стояли по часу. В Ростове и Харькове можно было пообедать. За Ростовом и в Таганроге покупали рыбцов, вяленых и копченых, летом – огромные арбузы и дыни. После Курска и Орла – яблоки, зимой моченые и соленые. Индюшек, гусей и кур хватали у подошедших баб с обратной стороны вагона, так как по перрону бегала железнодорожная милиция. Поезд, груженный снедью и разносолами, двигался к Москве, везя дары Северного Кавказа и Украины.
Где-то после Понырей вместе с запахом дичи и моченых яблок в вагон стали просачиваться тяжелые и тревожные вести.
Еще никто ничего не знал, но что-то спрашивали, перешептывались, и шумливый, сытый, чуть пьяный поезд вдруг затих. Кто-то из соседей, зайдя к нам, вдруг спросил:
– Не слышали? Говорят… убили Кирова?
Весть была настолько ошеломляющей, что все зашумели:
– Треп какой-то! Не может быть!.. Кирова? Да его все любят! Что вы?! Такого человека? Да кто?!
Я без пальто, несмотря на мороз, на первой же станции выскочил и побежал в ОГПУ… Открыл дверь. В маленькой комнате сидели два гэпэушника. Я подошел к старшему:
– Кирова убили… Это правда? В поезде говорят.
Оба так посмотрели на меня, что на минуту стало страшно. Какой черт меня понес?! Оба молчали. Уйти, не получив ответа, я не мог и стоял, ловя на себе их подозрительные взгляды.
– А вы кто такой? Документы…
Мои корреспондентские удостоверения, которые томительно долго они вдвоем рассматривали, все-таки меня спасли. Раздался второй звонок. Я был без пальто, вещи в вагоне.
– Правда или контрреволюционные слухи распускают? – рявкнул я, неожиданно для самого себя.
Капитан протянул мне документы:
– Застрелили.
Я вскочил на площадку тронувшегося поезда. Еще не отдавая себе отчета в случившемся – не умом, а сердцем, – я почувствовал, что произошло что-то страшное, неотвратимое. Тоска и страх сжали сердце в предчувствии какого-то слепого, карающего несчастья, надвигающегося на страну.
Москва встретила меня траурными флагами и какой-то сосредоточенной тревогой на лицах встречающих поезд людей: носильщиков, извозчиков.
Начался новый этап жизни. Через месяц или два я распрощался с журналистикой. Ушел, видимо, своевременно – сам поняв то, о чем мне сказал несколько лет спустя Николай Погодин:
– Из газеты надо уходить, как из цирка, – пока не подорвешься…
Я ушел, не подорвавшись. Я бы сказал, в самое время: когда вчера еще рано, а завтра – уже поздно.
У членов партии был путь наверх: и здесь все определялось не только литературными способностями, но энергией, изворотливостью, политическим нюхом, стремлением во что бы то ни стало и несмотря ни на что сделать карьеру или же истинной влюбленностью в сам темп редакционного круговорота. Действительно, все те партийные журналисты, которых не смела волна тридцать седьмого и которых не добили в сорок восьмом, стали редакторами газет, директорами издательств, партийными работниками, вплоть до секретарей ЦК – куда вознесла та же волна тридцать седьмого года, скажем, Михайлова.
Беспартийным журналистам надо было надеяться только на свои способности, свой талант. И многие из тех, кто начинал несколькими годами раньше или позже меня тоже с пятистроковых репортерских заметок, стали драматургами, сценаристами, прозаиками, публицистами, критиками, литературоведами или пытливыми архивными лоцманами. Но как тем, так и другим газета многое дала для того, чтобы проявить себя, – правда, каждый использовал эти премудрости по-своему.
Те же, кто остался на репортерской поденщине, до глубокой старости шли в ее ярме. Через много лет я встречал своих собратьев по газете: мы дружески улыбались, жали руки, они, уже лысые, обремененные семьями, брали у меня интервью и просили о протекции… Но было уже поздно – молодость ушла, ноги ослабли, зрение притупилось, репортерский задор угас, и они брели в опостылевшие редакции, как та старая шахтерская лошадь, что повстречалась мне на старой Юзовке.
Да, Погодин был прав. Уходить из репортеров надо, не подорвавшись, – хотя и жаль расставаться с газетой, с большими заработками и относительной свободой.
Я отдал газете семь лет, и эти семь лет наложили печать на всю мою жизнь и отплатили мне сторицей.
Московский университет приобщил меня к духу великих философов и писателей, провинциального школьника превратил в образованного человека, развил любовь к литературе, ее исследованию, но не дал никаких практических навыков. Окончив МГУ, я мог стать учителем литературы и собирателем фольклора, литературоведом, но уже на студенческой скамье я стал журналистом.
Пятистроковая заметка, с которой я начал в газете, научила меня многому. Она приобщила меня к различным слоям нашего общества, познакомила меня со многими уголками советской земли, куда бы я никогда не попал по собственной воле. Она научила меня быстро ориентироваться в обстановке и понимать сущность самых разных профессий и отраслей народного хозяйства. Схватывать суть происходящих процессов, извлекать главное, решающее из хаотических и противоречивых мнений и обстоятельств. Она научила меня общению с представителями разных социальных слоев, научила оперативности, краткости изложения. С тех пор я убежден: ничто так не украшает рукопись, как сокращение. Главное же – заметка вселила в меня способность удивляться и видеть что-то новое. Меня и сейчас тянет в даль, к неизвестному.
ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
ВГИК был первым во всем мире высшим учебным заведением кинематографии, а его сценарный факультет до 70-х годов – единственным.
На этом единственном факультете я преподаю уже тридцать с лишним лет. Может, еще не наступила пора для воспоминаний, а может, скоро уже будет поздно. Образы – на ресницах, еще все очень близко, еще туманит взор, но все же хочется рассказать о тех, кто ушел безвозвратно, присоединившись к большинству моих сверстников, и напомнить остающимся о том, что было до них.
В те годы, когда я поступал во ВГИК, он помещался – по какой-то фатальной причине, как и все в ту пору киностудии, – в бывшем ресторане. Если «Ленфильм» – в «Альказаре», «Азеркино» – в «Гулистане», то ВГИК – в знаменитом «Яре». В одном из банкетных залов был небольшой павильон, в другом – просмотровый, он же актовый. В отдельных кабинетах – аудитории, их было мало, пять-шесть. Дирекция, учебная часть помещались в бывших вестибюлях, курилках, официантских посудных – в них было тесно. Эйзенштейн читал свои удивительные лекции просто на чердаке: тесно, порой не хватало мест, но какой простор для воображения! Это был пир! Пир на чердаке бывшего «Яра». Правда, пир мысли – тогда было голодновато.
Когда я переступил порог «Яра», позади была уже эпоха «ГТК» и «ГИК», ВГИК тогда расшифровывался как Высший государственный институт кинематографии. Высший потому, что те дни были днями высшей славы кинематографа: отпраздновали пятнадцатилетие, деятели кино были щедро вознаграждены. На экранах шел «Чапаев». Товарищ Сталин прислал первое приветствие работникам искусства. В нем еще раз подтверждались ленинские слова о том, что мы – самое важное и самое массовое…
На гребне этой славы «ГИК» был превращен в Высший. В отличие от других институтов при нем создавались сценарная и режиссерская академии, аспирантура и научно-исследовательский сектор.
Тогда это было внове. Обычный прием во ВГИК был прекращен, только люди с высшим образованием могли вступить под сень высшей кинематографической школы. Доживали свой век режиссерские и сценарные факультеты да еще один выпуск экономического. Обычный прием проводился лишь на операторский факультет.