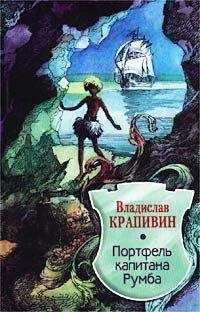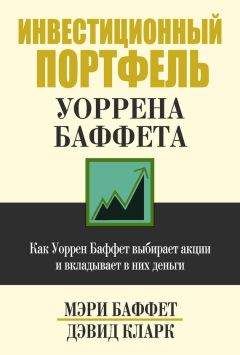Роман Перельштейн - Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Реальность и игра как тема художественного фильма
Глава 1. Личность снимает маску
1.
Оценностях подлинных и мнимых, имеющих своим истоком поднимающееся из глубины личности лицо и извне навязанный личности лик, было бы естественно повести речь в связи с социальной природой так называемого инстинкта театральности. В работе «Я и мир объектов» Бердяев отмечает, что persona в переводе с латинского значит «маска». Феномен персоны имеет прямое отношение к театральному представлению. С возникновением в начале XVII в. великой мировой сцены сравнение мира с театром, где всякий играет свою роль[268], становится, как замечает Й. Хейзинга, обиходным. Отсюда и уподобление поля жизни театральным подмосткам, а «природного сообщения людей» – игре. Бердяев апеллирует к концепции театральности теоретика театра, режиссера и драматурга Н. Евреинова. «Обозначив понятие «театральность», Евреинов вывел его за рамки собственно сценического искусства (включив в него игру, ритуал, зрелище и главное – саму жизнь), предельно расширив любые представления о том, что такое «театр»[269], – отмечает современный исследователь Т. Джурова.
Личность, как замечает Бердяев, это еще и личина, та самая пресловутая маска, которая защищает нас от «растерзания миром»[270]. «…Игра, театральность есть не только желание играть роль в жизни, но также желание охранить себя от окружающего мира, остаться самим собой в глубине», – пишет Бердяев и далее дает свое толкование инстинкту театральности: «Инстинкт театральности имеет двойной смысл. Он связан с тем, что человек всегда поставлен перед социальным множеством. В этом социальном множестве личность хочет занять положение, играть роль. Инстинкт театральности социален. Но в нем есть и другая сторона. “Я” превращается в другое “я”, перевоплощается, личность надевает маску. И это всегда значит, что личность не выходит из одиночества в обществе, в природном сообщении людей. Играющий роль, надевающий маску остается одиноким»[271]. Подобное одиночество связано с временной утратой своего «я» и чревато еще одной опасностью, на которую указывал К. Г. Юнг, трактуя персону как «индивидуальную систему адаптации или однажды избранную манеру отношения к миру». Опасность же, согласно Юнгу, заключается в том, что «мы зачастую идентифицируем себя со своей персоной: профессор – со своим учебником, тенор – со своим голосом. … Мы не очень погрешим против правды, сказав: персона это то, чем человек в действительности не является, но в то же время то, чем он сам, равно как и другие, себя считает»[272]. Поэтому Бердяев и не устает напоминать, что личность не сводится к личине, личность – это еще и свобода, интимный опыт обретения реальности во всей ее полноте, сбывающейся только в любви как победе над духовным одиночеством. Личность – это, прежде всего, лицо и свобода, а уже потом – маска и игра. Свобода же предполагает духовное усилие, если угодно – «незримые миру слезы», которые Гоголь не случайно противопоставил «видному миру смеху». Не потому ли Бердяев пишет, что: «Личность есть боль, и многие соглашаются на потерю в себе личности, так как не выносят этой боли»[273]. Н. Бердяеву вторит Э. Фромм, указывая на присутствие врожденных иррациональных сил в человеке, заставляющих его бояться свободы и рождающих в нем жажду властвовать и разрушать[274]. Иррациональные силы, дремлющие в нас, тютчевский «древний, родимый хаос» тоже заставляют человека прибегать к маске, которой он прикрывает свою оргиастическую природу, а не только защищается от социальной природы общества, чтобы не быть растерзанным им.
Оргиастическая природа человека с ее земляным ликом еще не есть зло, напротив – строительный материал нашей духовности, нашей душевной чуткости, нашей способности дивиться «божественным природы красотам» и «созданьям искусств и вдохновенья»[275]. Вл. Соловьев пишет: «Присутствие хаотического, иррационального начала в глубине бытия сообщает различным явлениям природы ту свободу и силу, без которых не было бы и самой жизни и красоты (…). И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена в торжестве мировой гармонии: достаточно, чтобы светлое начало овладело ею, подчинило ее себе…»[276]. Св. Григорий Палама, как отмечает В. Лосский, говорит: «…тело тоже имеет опыт вещей Божественных, когда страстные силы души оказываются не умерщвленными, но преображенными и освященными»[277]. Однако не всегда светлое начало берет верх, страстные силы души оказываются преображенными, и тогда человек прибегает к другому своему законному праву – властвовать и разрушать. Законному, потому что, как замечает А. Мень, «… свобода была бы призрачной, если бы не предполагала возможности воспротивиться призыву Творца и избрать свой путь». В подтверждение этих слов Мень приводит мысль В. Лосского: «Бог вкладывает в человеческую личность возможность любви и, следовательно, – отказа»[278]. Любовь терпеливо ждет медленно поднимающегося из глубины личности лица, любовь и есть лицо, его тайна. Возможность отказа нуждается в маске, в тайне маски. Властвует и разрушает человек, прикрывшись не только циничной шуткой, «глумливой рожей», отведенной ему в некой игре ролью, но и высокопарной риторикой строгого, но справедливого судьи, который исполнен собственной значимости. Однако и то и другое без любви есть только маска, торжество социального инстинкта театральности в самом его неприглядном виде, который теоретик театра Н. Евреинов явно переоценил. Будет не лишним заметить, что социальный инстинкт театральности имеет много общего с инстинктом социальности, обладающим, согласно П. Мариковскому, тактикой наступательной и агрессивной[279].
О возможности отказа от собственной личности как нашем праве говорит Ортега-и-Гассет в работе «В поисках Гёте». Размышляя о человеке, испанский мыслитель пишет: «Человек, другими словами, его душа, способности, характер и тело, – сумма приспособлений, с помощью которых он живет. Он как бы актер, долженствующий сыграть персонаж, который есть его подлинное “я”. И здесь мы подходим к главной особенности человеческой драмы: человек достаточно свободен по отношению к своему “я”, или судьбе. Он может отказаться осуществить свое “я”, изменить себе. При этом жизнь лишается подлинности»[280]. Гуманистический пафос Ортеги-и-Гассета нам чрезвычайно близок, мы разделяем его взгляд и на человеческую драму, но с некоторыми существенными оговорками. Человек – не сумма, а – неделимое целое. Первая оговорка влечет за собой вторую. Личность, стремящаяся к подлинности, перестает, что называется, актерствовать, перестает играть не только в другого, но и в самое себя. Она стремится самой собой являться, быть. Мысль о том, что это невозможно даже, как выразился бы Замятин, «на одну самую песчинную секундочку», есть постмодернистская (в негативном значении этого термина) подножка личности, почти дьявольская усмешка. Мы полагаем, что быть все-таки возможно. Возможно настолько, насколько мы слиты с реальностью, насколько мы ее творим в себе, насколько терпеливо, по-тютчевски, то есть в тайне от мира, взращиваем ее: «Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои»[281]. Ортега-и-Гассет пишет, что «наше «я» – это наше призвание. Мы можем быть более или менее верны своему призванию, а наша жизнь – более или менее подлинной»[282]. За словами испанского философа, из которых намеренно изгнан ложный оптимизм, стоит понимание того, как тяжело не изменить себе, насколько это личное, беспримесно личное дело. Однако когда Ортега-и-Гассет говорит об «истинной реальности человеческого существования»[283], он видит ее не только как возможность, реализовать которую до конца человек не в силах, но и как «подлинно внутреннюю точку зрения», которая, что для нас важно, не нуждается в маске.
Одна из характеристик евреиновской концепции театральности, которую дает Т. Джурова, не может не насторожить: «Фантастический, условный мир, сотворенный на сцене, должен, считает он, захватывать, опьянять до утраты ощущения художественности»[284]. А это означает – до утраты той глубины, которая приоткрывается через символ как самый верный проводник художества. Другими словами, магия театрального действия ничем не отличается от любой другой магии, которая, прибегая к заклинаниям, пытается получить власть над природой и, конечно же, над человеком, заточенным в темницу природы. Одной из глав книги «Магизм и единобожие» А. Мень предпосылает в качестве эпиграфа индийскую поговорку: «Весь мир подвластен богам, боги подвластны заклинаниям, заклинания – брахманам. Наши боги – брахманы». Так, не порывая с поверхностным слоем бытия, именуемого эмпирической действительностью, игра, «дотянувшаяся» до магии, пытается получить власть над миром, потеснив все духовные и физические измерения реальности. При помощи заклинаний и заклинателей свергнуть реальность. Игра через магию абсолютизирует план природы и выводит на сцену не только театрального, но и исторического Диониса, выводит силу, которой игре нечего противопоставить, а противопоставить необходимо, иначе о победе светлого начала и торжестве мировой гармонии, о которых пишет Вл. Соловьев, не может идти и речи.