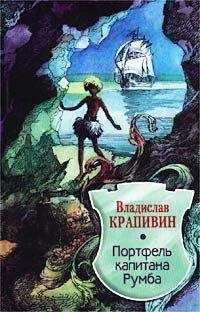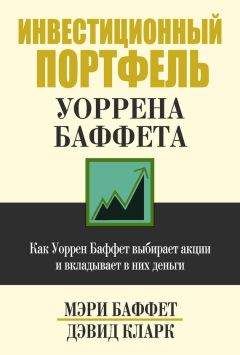Роман Перельштейн - Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
Не церемонится принц и с Офелией, восклицающей: «О, что за гордый ум сражен!»[220]. Но Офелия еще не понимает, да и никогда не поймет, что сражен, агонизирует лишь внешний человек Гамлета, сражен земной рассудок принца, утвержденный на гордости и тщеславии. Рассудок, либо презирающий корыстный расчет – военный поход Фортинбраса, либо только этим расчетом и руководствующийся: дворцовые интриги Клавдия, – разница невелика. Внутреннему же Гамлету, тому, которому явился Призрак, Офелия не попутчица. Но она первая, к кому принц приходит после того, как заглянул в бездну, принадлежащую сразу двум мирам, двум тайнам, первая из которых, земная (ее символизирует собой Офелия), больше не способна проращивать в Гамлете внутреннего человека. Офелия чиста сердцем, но она марионетка в руках отца и брата, заложница своего положения, рабыня маски, которую Гамлет (слишком мало у него времени) безжалостно срывает. Странно, но Офелия не просто хранит Гамлету верность, следуя за ним в страну, откуда нет возврата, но и прокладывает принцу путь. Безумие и гибель Офелии почти совпадают. Сначала воды забвения смыкаются над ее памятью, над неповторимым внутренним миром, беззащитно-небесным, а затем и над внешней земной оболочкой Офелии, напоминающей больше гирлянды цветов, чем человеческую плоть.
4.
В. Колотаев, анализируя фильм Антониони «Блоу-ап», называет вещью символического порядка «изображение, явленное нам без посредства тени, сотворенное из одного только света»[221]. Не таков ли и Призрак, явившийся Гамлету из тьмы могилы как символ обратной стороны вещей, символ иного измерения, того света. Все же света, а не мрака. Призрак не столько Тень, не столько маска и двойник в башляровском понимании, хотя он и взывает к мести, сколько Свет, иной свет. Призрак, как это ни странно и ни парадоксально, есть вещь, снимающая маску. Вещь, которую нельзя уложить в прокрустово ложе условной реальности природных явлений. Эта «вещь» относится к реальности сверхприродной, метафизической, абсолютной, пронзившей Гамлета в морозную ночь на одной из площадок замка.
Вещь, сотворенная из света, лучащаяся тайной, перекликается с поэтическим образом, созданным С. Кековой: «Наивным будет утвержденье, / что Бог отбрасывает тень, / и ты пришей к себе без швов / бессмертной тенью наизнанку / сон «поклонение волхвов», / сухого хвороста вязанку, / который собрала сестра / для новогоднего костра». В. Колотаев замечает: «Внешне символ обнаруживает ряд сходных моментов с вещью, не имеющей символического измерения». Так называемые «сходные моменты» символа и вещи могут быть только внешними, но не это важно, а то, что существует таинственная связь между вязанкой сухого хвороста, который собрала сестра, и «поклонением волхвов», между вещью и символом, этим миром и тем, та связь, которая перевернула душу не только студенту Виттенбергского университета Гамлету, но и молодому человеку из рассказа А. Чехова «Студент».
В канун Пасхи студент рассказал вдовам Василисе и Лукерье об отречении апостола Петра, и их слезы, их боль поразили его. «И радость вдруг глубоко заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой»[222]. В каком-то смысле чеховский студент уподобляется Гамлету, который заключает, что его человеческое призвание состоит в том, чтобы восстановить в правах Высшую Реальность, вероломно попранную обыденностью: «Век расшатался – и скверней всего, / Что я рожден восстановить его»[223]. Мы привели перевод М. Лозинского. Сравним с переводом Б. Пастернака: «Порвалась дней связующая нить. / Как мне обрывки их соединить?»[224].
Масштаб версии крушения героя на разломе эпох – Ренессанса и Нового времени, не идет ни в какое сравнение с масштабом догадки Выготского о том, что Гамлет находит в себе силы удержаться на разломе миров – «мира времени» и «мира вечности», что означает не поражение героя, а его победу. Распалась связь не столько исторического прошлого и настоящего, сколько связь видимого мира с миром незримым, связь вещи с символом, а человека с Богом. Гамлет не часовых дел мастер. Не ему чинить поврежденные часовые механизмы, понимаемые сколь угодно широко. Гамлет соединяет своей судьбой то, что находится над механикой. Он над физикой, химией, биологией, географией, историей, наконец. Исторический подтекст, так же как и национальный, поневоле рационализирует парадоксальный метафизический план. И Григорий Козинцев, и Аки Каурисмяки, и Франко Дзеффирелли искали параллели с временами, которые они пережили или переживали и через которые они «вели» своего Гамлета. Разлом эпох в «Гамлете» Козинцева воспринимается как перевалочный пункт от застегнутого на все пуговицы «сталинизма» к свободному покрою одежд «оттепели». Герой шестидесятых противостоит прогнившей, умирающей «системе», он бросает ей вызов и героически гибнет, перемолотый ее конвульсирующими жерновами. В фильме Каурисмяки «Гамлет уходит в бизнес» (1987) герой терпит крушение на разломе «классического капитализма индустриальной эры» и постиндустриального «информационного» общества»[225], а это уже преддверие весны шестьдесят восьмого, тогда как сам фильм Каурисмяки снят в год начала «перестройки», за которой последует распад СССР. Романский, мужицкий «Гамлет» Франко Дзеффирелли с одной стороны застигнут режиссером на перевале от варварства к цивилизации, а с другой, как справедливо замечает В. Бондаренко, чрезвычайно современен. Так конец ХХ века европейской истории рифмуется с веком XI.
«Дней связующая нить» прошла через сердце и чеховского студента, после чего он ощутил запредельную полноту бытия. И Гамлет, и чеховский Студент пытаются соединить своим сердцем, как мостом, два мира – «мир времени» и «мир вечности», видимое и незримое, прорастить их друг в друге, как выразился бы П. Флоренский. Библейская глубина вещей, которые тени не отбрасывают, и житейская поверхность вещей, исправно тень отбрасывающих, мучительно связаны друг с другом в нашем сердце. Тот самый костер, у которого грелись работники, ставшие свидетелями отречения Петра, сам горящий хворост, не отбрасывающий тени, и мельничное колесо Тригорина из чеховской «Чайки», отбрасывающее тень: «У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова», существуют не отдельно друг от друга, а в опасной близости, грозящей утратой присущих им черт. Так качества символа, подобно огню, могут перекинуться на вещь и спасти ее от забвения, а качества вещи, подобно «лиловой» летейской воде, могут «размыть» символ, погрузить его во тьму беспамятства. Горлышко разбитой бутылки, лунный блеск стекла – тоже символы, символы ночи, но не той ночи, которая есть звено увиденной чеховским студентом цепи, связующей двор, на котором отрекся Петр, и вдовьи огороды, бессмертное и бренное. «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, – пишет Вяч. Иванов, – когда он изрекает на своем сокровенном (…) языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову»[226]. Образом «внешнего слова» и является тригоринский «прием», которому завидует Треплев: «Тригорин выработал себе прием, ему легко»[227]. «Символы несказанны и неизъяснимы, и мы беспомощны перед их целостным тайным смыслом», – замечает Вяч. Иванов. Не потому ли Б. Пастернак в тезисах 1913 года «Символизм и бессмертие», размышляя о символизме, пишет: «Символизм достигает реализма в религии». И тут же вопрошает: «Остается ли символизм искусством?»[228]. Истинный символ, безусловно, носит религиозный характер[229].
Открыв сердце Призраку, уверовав в своего внутреннего человека, не доверившись внутреннему человеку, а именно уверовав в него, как в Высшую Реальность, Гамлет, словно бы проращивает в себе вещь, которая снимает маску. Ту самую вещь символического порядка, которая не отбрасывает тени, а значит и порывает с маской, с затененностью. Гамлет проращивает в себе вещь, которая делает шаг от «реального», как эмпирического бытия, к «реальнейшему», как бытию сверхприродному, «провеиваясь» от бренного к бессмертному.
5.
Снимает ли Гамлет маску со своего внутреннего человека, в которого он, хотя и уверовал, но никак не может с ним поладить, сопрячь с человеком внешним? Мы полагаем, что снимает. И происходит это благодаря тому, что страстно мыслящий принц пытается удержать оба рубежа реальности, прозревая в видимом незримое, то есть прозревая в «видимом и простом» смысле, смысл «необычный и глубокий». Реальность для него не сводится к миру видимых вещей и материальных явлений. Но реальность для него – это и не только он сам: реальность, образно выражаясь, не запаяна в Гамлета как в некую колбу, не сводится к его специфическому представлению о ней.