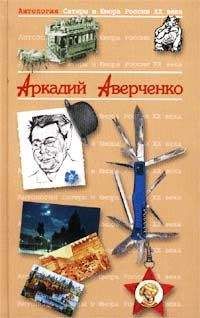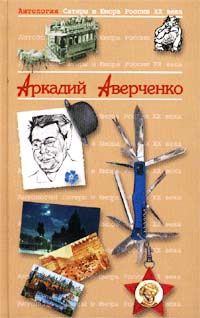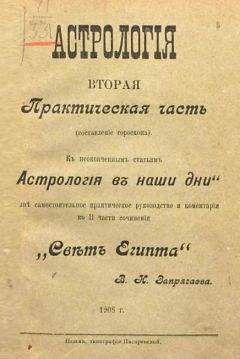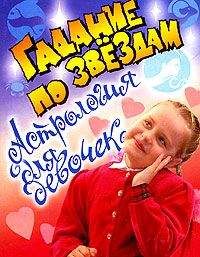Василий Ермаков - Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни
Слева хмыкнула Аля. Строго покосившись на нее, профессор медленно, с пугающими интонациями в голосе проговорил:
– За окном – пожар. Заставьте нас поверить, что это так.
Тема-то, нет слов, банальная. Но и какая же завальная.
Десятки уверенных в себе соискателей актерского звания спотыкались об нее. Обычно это происходило так: на лице абитуриента или абитуриентки изображался неправдоподобный ужас. Всплеснув руками, а потом облепив ладонями лицо, он (или она), истошно вскрикивая: «Пожар! Ах, боже мой, горим! Спасайтесь!» – и тому подобный вздор, опрометью бросался к окну, невидяще выглядывая из него и беспомощно пританцовывая перед ним… На этом, чаще всего, этюд и исчерпывал себя, никого ни в чем не убедив.
«Паша» же повел себя вовсе не так, как от него ожидали. Во-первых, он не всплеснул, не облепил, не бросился и не завопил. Спокойно приблизившись к окну, он выглянул из него, с вялым интересом обозрел открывшийся перед ним городской пейзаж, зевнул и, повернувшись к нему спиной, присел на подоконник, достав при этом портсигар. Не успев открыть крышку, чтобы извлечь папиросу, он вдруг всмотрелся в нее, словно она что-то отразила. Да всмотрелся так, что помимо своей воли, то же самое сделали и члены приемной комиссии во главе с профессором Зубовым. Они «увидели» вдруг на крышке портсигара какое-то странное, тревожно метавшееся отражение. Никакого отражения, разумеется, не было, но абитуриент так убедительно изобразил свою реакцию на него, что поверилось – было. Это походило на наваждение, на принудительный сеанс гипноза…
«Паша» недоверчиво обернулся и уставился в окно. Если перевести на язык слов то, что выразилось на его лице, слова прозвучали бы примерно так: «Ни хрена себе! Никак кто-то загорелся?!.»
Затем ошеломленные члены экзаменационной комиссии во главе с профессором Зубовым попеременно испытали стремительную череду следующих чувств, ощущений и желаний: уверенность, что кто-то действительно загорелся, сообщить об этом в пожарную часть, удовлетворение, что это сделано уже кем-то, праздный азарт зеваки, наблюдающего за работой прибывших, наконец-то, пожарных, сострадание к кому-то, выхваченному из огня, постепенное, по мере того, как «пожар» укрощался, угасание интереса к событию…
Этюд, завершился тем, с чего был начат – «Паша» закурил. Получилось композиционно завершенное творение из мимики и скупых неброских жестов. И ни одного дурацкого вопля, неуместного междометия. Все, что необходимо, оказалось задействованным. И в то же время четкий, жесткий отбор, ничего лишнего. А как пережит каждый момент воображаемого пожара эмоционально, с каким сильным, но сдержанным темпераментом!..
– Уфф! – выражая общее настроение, облегченно выдохнула Аля, когда этюд завершился. – Не знаю, как вы, а я еле усидела на месте – так хотелось подбежать к окну.
Константин Александрович протянул руку к личному делу необычного абитуриента. В него вселилась уверенность, что «алмаз», о котором мечтает каждый, уважающий себя педагог, оказался в его руках. Но алмаз, увы, имел существенный изъян…
– Чем-нибудь еще порадовать? – с непривычной для основной массы поступающих непринужденностью осведомился абитуриент. – Вы не стесняйтесь, мне это нравится.
Все невольно поморщились. Но не от легонького нахальства парня. От двух коротких, в общем-то, реплик пахнуло таким густым диалектом, что всем сделалось дурно.
– Нет, благодарим, – возразил Константин Александрович. – Вы нас достаточно порадовали. Можете идти. О своем решении мы вас уведомим.
Подволакивая длинные ноги, абитуриент удалился. Некоторое время в аудитории царила глубокая задумчивая тишина. Никто не решался ее нарушить. Лишь слышался шелест перелистываемых страниц личного дела удалившегося абитуриента.
– А он, оказывается, партизанил, – произнес наконец Зубов и, просмотрев следующую страницу, добавил: – И два года прослужил в русском драматическом театре Луганска под руководством режиссера Петра Монастырского. Монастырский… Монастырский… Что-то фамилия знакомая. Уж не учился ли он у нас, в «Щепке? – профессор не заметил, что употребил вслух прозвище, закрепленное студентами за своим обожаемым училищем.
– Не припомню, – напряженно отозвался Дмитриев и, пожав плечами, добавил: – Все может быть.
Василий Семенович Сидорин озадаченно помалкивал. Молчали и Аля с Сережей Харченко. О каком-то там луганском режиссере Монастырском слышали впервые. Но когда же этот парень в свои девятнадцать лет успел и повоевать, и послужить в театре?..
– Может быть, может быть, – прервав их размышления, согласился с Дмитриевым Константин Александрович и, перейдя на деловой, профессорский тон, попросил членов приемной комиссии высказаться о наличии актерских способностей или отсутствии таковых у абитуриента Павла… он снова заглянул в дело… Борисовича Лус-пе-ка-е-ва.
Начать должен был, если он имел к тому желание, член комиссии, занимающий в ней самое низкое положение. То есть – Аля. Она же Розалия Колесова.
– Потрясающе! – с неподдельным энтузиазмом воскликнула она. – Все еще не могу опомниться. Будто действительно побывала на настоящем пожаре!
– Это что-то… чудовищное, – своеобразно поддержал свою молодую жену Сережа. – Этот парень талантлив как… – он покрутил кистью, подыскивая точное сравнение и, не подыскав такого, припечатал:…как черт!
Наконец Константин Александрович отважился взглянуть на нахохлившихся Дмитриева и Сидорина. Поерзав на стуле, Дмитриев неохотно выдавил: – А корифеи?
– Да, корифеи, – поддержал коллегу Сидорин.
Аля и Сережа ошеломленно притихли. Они забыли, что на третьем, решающем, туре отобранных абитуриентов будут просматривать и прослушивать прославленные корифеи сцены Малого академического театра. Как-то они отнесутся к чудовищному, кажущемуся неисправимым южному русско-украинскому диалекту абитуриента Павла Луспекаева? А что они отнесутся, мягко выражаясь, не с восторгом – предугадать нетрудно. Схватка произойдет нешуточная, и кто возьмет верх – Зубов, тоже корифей, или коалиция корифеев, – заранее не угадаешь. Если, конечно, многоопытный Константин Александрович за оставшееся до третьего тура время не придумает что-нибудь такое, что обезоружит корифеев, сведет их возражения на нет.
– В любом случае, я беру этого парня, – твердо, как о раз и навсегда решенном, произнес профессор и распорядился, чтобы Аля уведомила абитуриента Луспекаева о том, что он допущен ко второму туру.
Аля вышла в коридор исполнить поручение, а на полном лице профессора появилось выражение сосредоточенной озабоченности, которое держалось на нем вплоть до окончания третьего тура, несмотря на то что способ обезоружить неуступчивых корифеев им был все-таки придуман.
В отличие от первых двух третий тур вступительных экзаменов в «Щепку» проходил в торжественной, почти праздничной обстановке. Слово «почти», впрочем, можно смело исключить, не опасаясь допустить неточность. Во-первых: если предыдущие туры проводились в аудиториях училища, то третий – в старом Щепкинском зале самого Малого театра, куда абитуриенты шли мимо памятника великому драматургу, с длинным, необъятных размеров столом для президиума, накрытого тяжелым бархатом густо малинового цвета. Стол – монументальный, из красного дерева, изготовлен был для театра по заказу ко дню его основания.
Стулья и вся остальная мебель – тоже. Тяжелые плотные гардины на больших окнах, расписной потолок, затейливая лепка капителей колонн. Каждый, кто оказывается в старом Щепкинском зале, невольно испытывает благоговейное почтение.
Второе отличие третьего тура от двух первых заключается в том, что просеянные через решето приемной комиссии оставшиеся абитуриенты – почти уже студенты. Среди них нет бездарных. Просмотрев и прослушав их, корифеи, как правило, утверждают представленные кандидатуры. Лишь что-то необычайное – внезапное сумасшествие, например, или неожиданный вызов, направленный против незыблемых принципов и традиций Малого театра, – может нарушить десятилетиями выверенное течение этой процедуры.
В этот раз за столом, накрытым малиновым бархатом, собрался весь «цвет» Малого: Е.Д. Турчанинова, А.А. Яблочкина, В.Н. Пашенная, М.И. Царев, А.Д. Дикий, П.М. Садовский, Н.А. Анненков, В.Н. Аксенов, А.П. Грузинский, Л.И. Дейкун – никто неожиданно не «заболел», никто не отправился на дачу или в санаторий. Каждому корифею безумно любопытно было посмотреть на парней и девушек первого послевоенного набора.
От Али Колесовой, сидевшей за отдельным столиком, нагруженном личными делами оставшихся после «отсева» счастливчиков, не ускользнуло, что Константин Александрович Зубов рядом с Верой Николаевной Пашенной усадил Михаила Ивановича Царева, а рядом с Александрой Александровной Яблочкиной – Алексея Денисовича Дикого.
Вера Николаевна и Александра Александровна слыли в Малом и в «Щепке» особенно строгими ревнительницами чистоты языка, благодаря которому они прославили сцену, где играли, и навечно вписали свои имена в историю русского, а, следовательно, и мирового театра. Алексей Денисович и Михаил Иванович пользовались репутацией либералов, допускавших обогащение сценического языка за счет современных словообразований.