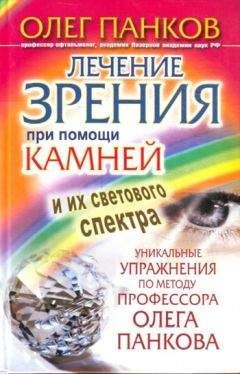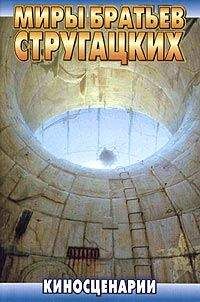Иосиф Маневич - За экраном
В пути нас ожидали новые невзгоды. Ввиду крайнего безденежья Леве взяли четверть билета, хотя ему уже было одиннадцать. У станции Синельниково, которую тогда все называли Сидельниково, так как на ней сидели сутками в ожидании пересадок, контролер потребовал Левину метрику и грозил ссадить нас с поезда. Мама говорила, что метрика зашита в рогожском тюке, а большинство пассажиров, в особенности молодой политрук, кричали, что Леве нет десяти и что они нас знают. Контролер, однако, был неумолим и требовал, чтобы в Синельникове мы сошли. Поезд остановился, мама заплакала. Бледный Лева стоял с виноватым видом. В конце концов я без пальто, чтобы все видели, что на моей груди редкий тогда значок Ленина, взял Леву за руку и пошел к начальнику станции, с нами пошел и политрук. Заспанный начальник станции долго изучал Леву, примеривая глазами его рост. Посмотрел на меня, на политрука, а затем изрек: «Нет десяти».
Путь нам был открыт.
И вот на пятые сутки приближаемся к Пятигорску. Но оказывается, что до Пятигорска поезд не идет. Нам предстоит пересадка в Минеральных Водах. За окном темень, пять часов утра. Само название станции – «воды», да еще «минеральные» – внушает тревогу. За окном только темень – никаких вод. Тащим рогожи к выходу, спешим выбросить их в темноту Минеральных Вод. Выходим на твердь перрона и видим вдали папин силуэт. Он всматривается в окна и вот уже спешит к нам в своей старой английской шинели. Мы не видели его полгода, бросаемся к нему. Но надо опять на поезд, который привезет нас в Пятигорск.
Хотя в вагоне темно, но за окном уже можно различить силуэты гор. Папа произносит незнакомые названия: Змейка, Бештау, Машук. Туман, дождь, вершины в облаках. В Пятигорске нас ждет линейка. Папе полагаются лошади, это меня немного оживляет. К нам подходит кучер Максим. Он еще много лет будет возить папу на линейке, затем на фаэтоне, до самой войны, пока румынские офицеры не укатят на нем, захватив наши вещи и серую пару лошадей – Мальву и Мандарину. Долго будет скучать по ним Максим, и не утешат его молодые гнедые… А пока рогожи наши на линейке, и мы едем куда-то в дом Уптона. Он, как замок, высится на Горячей горе.
Уптон – англичанин, архитектор. Он построил много домов на Кавказских Минеральных Водах, и этот, похожий на шотландский замок, пансион в том числе. Ныне это санаторий «Первое мая», и папе дали в нем комнату.
Курорты в ту пору зимой не работали. Санаторий и ванны ремонтировались, готовились к сезону. В эти зимние месяцы лечились лишь местные жители, служащие курорта и их родственники. Утром мы идем в Лермонтовские ванны, самые старинные, – они прямо внизу, под горой, пять минут от Уптона. Раньше они назывались Николаевскими в честь Николая I. По преданиям, здесь принимал ванны и Михаил Юрьевич Лермонтов. Он писал бабушке: «Превратился в утку, целый день пью воды и купаюсь».
Погрузился и я в серную воду. Голубоватый цвет, почти морская ванна, если бы на море пахло тухлыми яйцами. Мыло мылится плохо, но тело как шелковое. Окропил и меня Пятигорск целительной водой. Завтра мне и Леве в школу, только мне в бывшую гимназию – теперь школа номер один, второй ступени, – а Леве в бывшее реальное училище, школу первой ступени.
Проглянуло солнце, сошел туман с гор… Смотрим с Горячей горы на Пятигорск. Папа уже все знает, каждую гору показывает нам, дом за домом, санаторий за санаторием, и контуры Эльбруса.
Школа массивна, рядом с Казенным садом. Построена с умом, основательно. Просторные классы, большой зал. Меня встретили, как всякого новенького, с любопытством, тем паче что я с берегов Черного моря. Но как продемонстрировать тут свои способности? Плавать-то негде! Мутный мелкий Подкумок, какие тут вельботы или яхты? Футбол в те годы только начинался, а я был скорее новичком: хотя играл в Севастополе в команде «Веста», но больше числился, на моем счету был всего один случайный гол. Потащили меня в Пятигорске на поле, и я был посрамлен. Долго переживал, что не отстоял честь Севастополя. Нужно было отыграться.
Директором моей новой школы был молодой учитель Константин Васильевич Храпко. Он всего год как прибыл с Украины и, видимо, был одним из последователей Макаренко. Константин Васильевич делал ставку на самодеятельность учащихся, на самоуправление. Старые, еще гимназические учителя ворчали, высмеивали его, но открыто выступать против опасались. Учащиеся – в особенности «общественники» – группировались вокруг него и, как тогда казалось, закладывали основы будущей школы, самоуправляемой, политехнической..
Я, попавший сюда из севастопольской вольницы, где самоуправление было лишь игрой, не менее увлекательной, чем казаки-разбойники, застал здесь уже почти сложившийся институт самоуправления и быстро включился в него, стал одним из его «деятелей».
Храпко опирался на ученический комитет и передоверил ему все вопросы воспитания. Все нарушения дисциплины разбирались в группкоме, почти каждый учащийся выполнял какое-либо общественное поручение, в школе выходили двадцать три стенные газеты. Двадцать третья – «Школьная правда» – была органом учкома и фракции РКСМ. В ней помещались маленькие рассказы, карикатуры, освещались все политические события. Я редактировал эту газету и регулярно писал статьи: помню «Карл Маркс», «Парижскую коммуну»… Писал я с увлечением, черпая материал из популярных брошюр, а иногда даже из серьезных работ.
Школа шефствовала над двумя крестьянскими начальными школами в Новом Пятигорске и Горячеводске, и я топал туда по глине и лужам раза два в неделю, так как был руководителем внешкольной работы учкома. Главным же моим достижением было шефство над пулеметным эскадроном кавалерийского полка. Мы выезжали в казармы, занимались с неграмотными, читали стихи и играли спектакли. Мы были желанными гостями, а кавалеристы, в свою очередь, приезжали к нам. Очень часто у школы можно было видеть привязанных лошадей политрука Хавкина и его ординарца. Получив разрешение политрука, я вставлял ногу в стремя, легко поднимался, садился в седло и подтягивал шенкеля. Серый мерин Апельсин был покорен мне, но когда Хавкин приезжал на гнедом Арабе, мне приходилось туго, и я мечтал о том, чтобы скорее свернуть за угол и скрыться с глаз девчонок, наблюдавших за моей эквилибристикой.
Кавалеристы помогали нам во всем. Помню, мы проводили «литературный суд» над Ропшиным, героем книги Бориса Савинкова «Конь вороной». Конечно, никто из нас не знал биографии Савинкова, да это было и не столь важно. Мы судили его за деяния, им самим описанные. Впрочем, суд был самым настоящим, по всем законам судопроизводства, – я специально ходил в суд и прослушал несколько дел, чтобы быть достаточно компетентным. Савинкова играл наш лучший актер Сережа Иванов, Шура Сатиров, сын юриста, был защитником, а я выступал в роли прокурора. Все были в костюмах и в гриме. Я – в своей кожаной куртке, но с наганом и в буденовке, которыми нас снабдили кавалеристы.
Два всамделишных солдата с саблями наголо сторожили скамью подсудимых. Процесс был полон драматического противоборства. Моя речь звучала взволнованно и изобиловала какими-то изречениями. Последнее слово Ропшина так было разыграно Сергеем, что многие заплакали, – тогда нам сказали, чтобы он умерил свой пыл. В общем, «Конь вороной» пользовался большим успехом, и мы проводили этот «суд» несколько раз в различных аудиториях.
Билеты были платные, деньги шли подшефным. Когда заканчивалось представление, мы «снимали кассу» и подсчитывали наши доходы. В школе оставлять их было нельзя, поэтому как-то мне поручили забрать деньги домой, а утром сдать их кассиру. В Пятигорске в это время было неспокойно, какие-то гастролеры прибыли на лечение и расходы окупали, грабя прохожих. Я жил под Машуком, напротив домика Лермонтова, – там, как и в его время, Пятигорск тогда кончался. Идти было страшно. Ничтожная, в общем, сумма выручки казалась мне баснословной. Держа пачку денег, завернутую в газету, под мышкой, с пугачом в руке, я спешил к себе домой. Увидев какую-то пару, которая шла мне навстречу по темному переулку, я грохнул из пугача. Пара, увидев меня с зажатым в руке пугачом, бросилась бежать, а я, чуть оправившись от страха, скользнул в калитку и долго просидел на террасе, глядя на пачку бумажек и горстку монет, лежавших передо мной на газете.
Общественная работа до того захватила меня, что я забыл, что я ученик, а большинство учителей, слушая мои выступления на различных собраниях, старались не напоминать мне об этом.
МГУ
Факультет, на котором я учился в Первом Московском университете, назывался этнологический. Вряд ли сегодня кто-либо сможет объяснить происхождение этого названия, я думаю, важно было одно: название это – новое, не такое, как раньше – историко-филологический. Юридический факультет тоже назывался по-новому – ФОН, то есть факультет общественных наук; мы же расшифровывали это по-своему: «факультет ожидающих невест». На этих двух факультетах в 20-е годы сосредоточивалось гуманитарное образование.