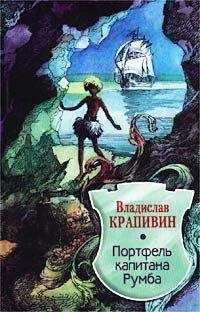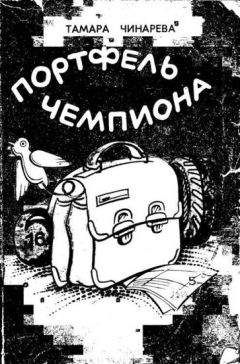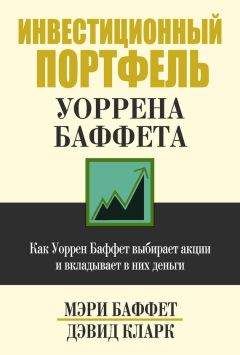Роман Перельштейн - Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
Когда Вышеславцев говорит, что все зло имеет своим источником внутреннего человека, то есть сердце, мы вправе спросить философа, а как же связан со злом наш внешний человек? Внешний человек, согласно апостолу Павлу, делает меня «пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим 7). Мы не пойдем против правды, если скажем, что зло имеет своим источником и нашего внешнего человека. И не в большей ли степени? Внутренний человек, и здесь мы согласимся с Вышеславцевым, теснее связан со злом, но у него и больший опыт пересиливания зла и смерти. Мы полагаем, что все зло имеет своим источником внутреннего человека только тогда, когда он, пойдя на поводу у природы, надевает маску. Конечно, такой уверткой, как образ маски, мы не разрешаем антиномии внутреннего человека, его конфликта с самим собой. Но этот образ имеет отношение к символической глубине предмета нашего разговора и помогает ближе с ней сойтись и больше о ней узнать. Внутренний человек и рад бы все свалить на плоть и материю, на нашего несокровенного, несовершенного «земляного» человека, переложив на его плечи греховность человеческой натуры, да не может, потому что «сокровенный сердца человек» не сторонний наблюдатель, он – русло всей крови существования, он в ответе за глубину бытия, которую промеряет своей, вставшей на цыпочки глубиной, стремящейся как можно полнее отразить в себе оба мира – этот и тот, и собою, своим сердцем связать их. Но это становится возможным, считаем мы, только тогда, когда внутренний человек снимает маску, то есть пробуждается и угадывает свое истинное призвание, состоящее в жизни без смерти. «Мне своего бессмертия довольно», – напишет Арсений Тарковский. Не моего бессмертия, как единственно истинного религиозного опыта, как только мне принадлежащего, мною самонадеянно и гордо присвоенного сверхбытия, а – своего, не разменянного на пустяки сердца.
3.
Не нужно путать дихотомию «внутренний человек – внешний человек» с теми внутренними и внешними установками индивидуума, о которых писал К. Юнг в работах «Психология бессознательного» и «Психологические типы». Внешняя установка, согласно Юнгу, «руководит» созданием «сложной системы отношений между индивидуальным сознанием и социальностью», в результате чего возникает удобного вида маска, рассчитанная на то, чтобы, с одной стороны, производить на других определенное впечатление, а с другой – скрывать истинную природу индивидуума. Это как раз то, что Бердяев называет «инстинктом театральности», защищающим личность, которая обязана надевать маску, чтобы не быть растерзанной миром. Без маски, и это очевидно, никак не обойтись, потому что «социум ожидает и даже обязан ожидать от каждого… что тот как можно лучше будет играть отведенную ему роль»[124]. «Внутренняя установка, – комментирует Юнга В. Михалкович, – напротив, подчиняет психику “неясным, темным побуждениям чувства, мысли и ощущения, которые не притекают с наглядностью из непрерывного потока сознательных переживаний, <…>, но которые всплывают… из темных внутренних недр, из глубоких дальних областей, лежащих за порогом сознания…”»[125]. Юнговская «внутренняя установка» – еще одна маска, или прообраз той самой маски, которую надевает внутренний человек, когда не желает бодрствовать. Когда оказывается поглощен «пучиной бессознательного состояния»[126].
Однако за маской способен скрываться не только внутренний человек. Будучи по существу своему маской, внешний человек сам может как надевать маску, стыдливо прикрывая ею свою биологическую природу, цивилизуя и облагораживая заключенную в нем мрачную бездну, так и снимать маску, окончательно расчеловечиваясь и являя свой звериный лик. Если для внутреннего человека расставание с маской означает прорыв к духу, то снимающий маску внешний человек (маску как юнговскую «внешнюю установку») «вываливается» в природу. И даже оказывается ниже природы. «Зло в человеке обнаруживает какой-то особый, чуждый природе изощренный характер: это не просто «звериная стихия», а упоение злом, скрытый или открытый сатанизм»[127], – замечает А. Мень. Мы противопоставляем Человека Зверю, конечно же, не в природном, а в метафизическом смысле, согласно которому Зверь есть мрачная бездна, воплощение дисгармоничности, иррациональности, поврежденности человека.
Внутренний и внешний человек имеют один корень, нашу личность, но ветви этого древа раскинуты в разные стороны, различны и их плоды. Проектом внутреннего человека является призвание и свобода, за которую мы платим своим благополучием. Проектом внешнего человека является роль и обстоятельства, точным слепком которых он является. Призвание, будучи служением, в определенном смысле – жертвованием себя миру и людям, несопоставимо с ролевым существованием, при котором внешний человек выстраивает деловые отношения как с миром видимым, так и с миром незримым, пытаясь заручиться покровительством Высших сил при овладении земными ценностями.
Дар лица несоизмерим с бременем маски. Лицо заставляет нас искать не простоты и покоя, как равнения на самодовольную середину, и не бурь и безумств, рождающихся на просторах дионисических оргийных культов[128], а, как выразился И. Евлампиев, «какой-то притягательной сложности, пусть даже чреватой конфликтами и противоречиями, какой-то проникновенности»[129], – искренности, подлинности, наконец. Маска же является оттиском обстоятельств, давящих на нас, и наше право – «негромкое право» – внутренне сопротивляться им. Маска заставляет нас принять форму этих обстоятельств, развивает в нас нечуткость к тайне жизни.
4.
Именно исподволь, тайно, без предупреждения подлинное искусство готовит почву для перерождения внешнего человека во внутреннего. Это происходит, вероятно, потому, что искусство способно добро и истину неожиданно сопрягать с красотой. Делать неожиданной встречу истины и добра.
Согласно «свободной теургии» Вл. Соловьева, «открывшаяся в Христе бесконечность человеческой души, способной вместить в себя всю бесконечность божества – эта идея есть вместе и величайшее добро, и величайшая истина, и совершеннейшая красота»[130]. Причем красота, как отмечает В. Бычков, «выступавшая главным признаком оптимальности воплощения идеи, была неотделима от двух других ипостасей всемирной идеи, которая на уровне знания выражалась понятием истины, а на уровне социальной жизни – феноменом добра, или блага»[131]. Хотя мы и ведем речь об искусстве с религиозно-онтологических позиций, но вместе с тем пытаемся взглянуть на феномен искусства, насколько это возможно в рамках данного исследования, непредвзято. Красота не только скрашивает ту неловкость, которая возникает, когда рассудок знакомит добро и истину друг с другом. Красота сама неожиданно для себя, в «надсознательной» области сходится с добром и истиной. И часто эта неожиданность, эта «надсознательность» бывает спасительна для союза «духовных сущностей бытия», которые по отдельности, скорее всего, и не существуют. Во всей полноте они «живут только своим союзом»[132]. В книге «Русская теургическая эстетика» В. Бычков пишет: «Вдохновение понималось Пушкиным как пророческий дар поэту, на основании чего Соловьев делает вывод, что Пушкин видел значение поэзии в «безусловно-независимом от внешних целей и намерений, самозаконном вдохновении, создающем то прекрасное, что по самому существу своему есть и нравственно доброе»[133]. «Самозаконное вдохновение» вовсе не произвол или игра ума, оно – свобода сердца, улавливающего импульсы высших сфер бытия[134]. Но без этой свободы, без этого «самозаконного вдохновения», творящего красоту, истина, согласно Вл. Соловьеву, становится «пустым словом», добро – «бессильным порывом», а красота – «кумиром»[135].
Разовьем метафору, к которой мы прибегли. Рассудок знакомит добро и истину друг с другом при неверном, искусственном, ложном свете, то есть, как выразился А. Пеньковский, при «лжесвете»[136]. Вот как описывает в «Маскараде» «лжесвет» М. Лермонтов: «Кипел, сиял уж в полном блеске бал; / Тут было все, что называют светом; / Не я ему названье это дал; / Хоть смысл глубокий есть в названье этом; / Моих друзей я тут бы не узнал; / Улыбки, лица лгали так искусно…»[137]. При «лжесвете» бала-маскарада не узнаны внутренние сущности друзей, их внутренний человек, но зато при свете, испускаемом «тысячами плошек, свечей, шандалов, шкаликов, кенкетов, лампионов и жирандолей»[138], происходит знакомство с внешним человеком. Именно он, наш внешний человек и пытается разлучить красоту с истиной, добро с красотой, а истину с добром.
Красота, разлученная с истиной, оборачивается эстетизацией не только деструктивных тенденций бытия (демонизм, сатанизм и т. д.)[139], но и эстетизацией той предметной действительности, которая уже не является частью сверхприродной, метафизической реальности[140]. Такая, поклоняющаяся одной лишь красоте предметная действительность существует как бы независимо от незримой Реальности, а значит и вне символической глубины тех вещей, которые предметную действительность и наполняют, и являют взору. Неоромантизм и натурализм, как направления искусства, которым свойственны соответственно наигранная экзальтированность и концептуальная бесстрастность, вполне мирно сосуществуют на территории нашего внешнего человека.