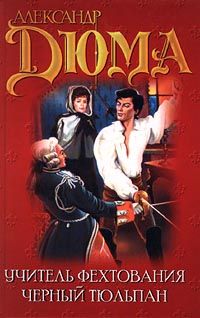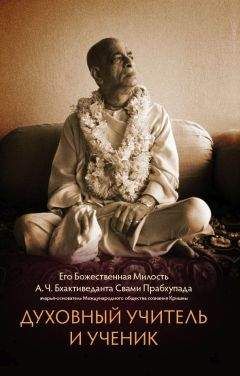Леонид Леонов - Избранное
Пронька, сколько ни приглядывался к деятельности неукротимого Виссариона, так и не умел постигнуть его до конца. «Чудной ты, жарко говоришь, а на два смысла действуешь!» Виссарион ни в чём не признавал половинчатых мер, начиная от безбожной пропаганды до ликвидации неграмотности, и буквы циркуляра придерживался во всём. Он произносил страшные слова, которые пугали и самого Проньку, и Мокроносова, а банда росла, и чёрный туман двигался впереди неё на мужицкие селенья. Положение Буланина укреплялось; фотография его попала в губернскую газету, — он был изображён с откинутой головой, полным задора и крика, но никто не знал, что этот крик был: «Назад к тезису!» Это была пора его расцвета, он уже не боялся ничего. Перед самыми воротами обетованного города, полного великолепной социальной архитектуры, он затевал последний бунт. Его не огорчала незначительность его плацдарма; артиллерист, он знал законы детонации взрывчатых веществ, а честолюбивое воображение усиливало ему образ его самого — хромого предтечи Атиллы, шагающего по пустыне.
В захваченном манией мозгу его слагалась героическая феерия: цветные вихри плескались в ней, двигались полчища безымённых бродяг на материки и народы, ветхие сивиллы раскрывали пророческие и беззубые рты, начиналась как бы флуоресценция стихий, мир раскрывался в первоначальном своём смысле, загаженном трудолюбием гениев. Он глядел и находил, потому что искал и хотел. Каждая мелочь этой временной заминки утраивала его силы, и вот наступил день, когда зашептали, наконец, домодельные макарихинские сивиллы. Сказывали, будто Савиха, бродя за грибами, встретила дубоватого коротконогого старичка в дальней заозёрной стороне; и будто бы кинул старичок щепотку праха в коровьи глаза старухи, и Савиха увидела дикостные, могучие племена, застывшие над землёю и её городами. Задрав одежды, раскидав грибы, якобы неслась старуха целой скирдою по незнакомому полю, а старичок кукарекал ей вслед. Лука, эта бородатая сивилла мужеского пола, видел, как из трухлявой сосны выскочил заяц с красной головою, и теперь на Луку не смеялись. По уверенью некоторых, в округе стал прохаживаться незнакомый господин в волосах и с подпалённой бородой, который разыскивал покраденную у него медаль; в нём не трудно было узнать недобитого купца Барулина. Древняя языческая космогония оживала на глазах у всех; мёртвые искали себе дружбы у живых. На поселенья поползли крысы, клопы и какие-то летучие тараканы, а в довершенье смехот выполз из болотной дебри необыкновенный микроб и стал есть матицы в новых избах. Зародился он, наверно, ещё в пору проливней, и месячная сырость помогла ему приспособиться к сотинскому бытию. Кажется, всё та же Савиха встретила его однажды, а тронуть не порешилась: черноват, усат, с востреньким хоботком, а размером с небольшую жужелицу. Мазали старухи керосином почернелые матицы, но не переставали те трухлявиться, а дранчатые крыши замшели, а в просторной макарихинской бане сруб маленько присел на уголок и стал походить на шапку, робко посдвинутую набекрень… Какая-то женщина со строительства, рыжеватая чуть, наскребла в бутылочку избяной плесенцы и всё искала таинственную жужелицу — не то на казнь, не то на исследование науки; бабы едва глаза ей не выцарапали за злодейство. Подразумевали, что микроб нарочно пущен Увадьевым на жилища мужицкие и сердца, чтоб источил вконец, а опустелое место застроить фабриками с новыми людьми, безотличными от православных, с той лишь разницей, что спят без храпа и без дыхания — на манер, как молотилки спят. Барулин, сказывали, пополнел и, примирясь с утратой медали, выдумывает новую штуку под советскую власть. Глупость мешалась с дикостью, мёртвое с живым, нищета с неистребимой нечистью… гуляла человеческая метель, и уже под шумок выходили на добычу воры.
А началось с того, что на свадьбе у Феди Селивакина выкрали лапшу из печи. Тут праздник случился, и Макариха полна была наезжих гостей, из которых половина прогуливала по улице свой свадебный хмель. В селивакинском дому шёл своим чередом пир, и жених уже дважды выбегал на двор помочить в пожарной кади пропитую свою башку. В открытые окна летели звуковые клочья гульбы, а чаще всего повторялось:
— А ну, перед лапшой по большой!
— Ой, пирог подгорел… ой, смочить малость!
Гости томились и потели, а лапша всё не шла; ядовитая сваха шутила, не примёрзла ли заслонка; жених, в помраченьи от такого срама, со стоном искал сбежавшую лапшу, а веселье замирало на высокой ноте, как неоконченная песня. Пока женихова родня ловила на огороде кур на новую еду, гости высыпали на улицу поразмять затёкшие животы. Тут и встретили они сотьстроевских людей, притащившихся сюда со своей горемычиной. Пришли они с собственным гармонистом, и оттого, что у каждого имелся свой грошик на угощенье, показались им особенно гостеприимны макарихинские околицы. Селивакин, а с ним и гости, как только завидели их сидящими на брёвнах, так сразу и решили, что котёл с едовом выкрали они. Глубоко затаив обиду, они смешались с пришельцами, и сразу завелась беседа про всякие мужиковские скорби, про окаянного жука, что питается древом, про вещие пламена, про колхоз, за который с особой настойчивостью ратовал теперь Мокроносов. Между прочим, укорили строителей за их сотьстроевское расточительство:
— Всё строите, на последние крохи… кто жить-то в вашем дому станет!
А уж тем и отступать некуда:
— И построим. И народу найдётся… плодовитый у нас народ.
— Черти, вы черти… обеднили нас до лоскутка!
— Бедные, а пить имеете… Эко рыло, шире маминой задницы! Почём за молоко-то дерёте?
А гостей уж и вправду разнесло от селивакинского обеда.
— Сами мужики, а мужику на пороге ложитесь, черти неправедные!
— А вы контрики, собак вами кормить.
Тут бы и разойтись, но в соседней кучке заспорили о святых, и один, простодушный Миколаша из акишинской артели, выразился в том смысле, что вологодскому святому супротив череповецкого не выстоять. Этого стерпеть стало уже нельзя; так Миколаша и не кончил, а стоял потерянно, облизывая внезапно осолоневшие губы. Ударил его пучеглазый мужичонка, женихов дядя; ударил не столько за сочувствие советской власти, не столько в защиту святого, сколь за покраденную лапшу. Ударив же, он и сам струсил и юркнул было за Лукинича, который случился возле, но тут все строители увидели расплывшиеся миколашины губы, кровянисто дрожавшие, как студень.
— Кого бьёшь, дитю бьёшь! — закричали земляки. — Дружок, утрись… ведь тебя обидели! — и тотчас пустились ловить увёртливого обидчика.
Произошла небольшая свалка, а когда глаза привыкли к суматохе, многие увидели, как Фаддей Акишин, отставив в сторону картонную конягу, прилаживал на себя старенький картузишко и готовился выступить в подмогу землякам. Несмотря на обоюдное возмущение, побоище началось по древним правилам кулачного соревнования: снимали пиджаки и тем дружественней пожимали руку, врагу, чем сильней кипело сердце. Не дорезав своих кур, высыпала откуда-то жениховская родня, и тотчас навели на них печальную красу огорчённые сотьстроевские ребята; пучеглазый дядька украдкой уползал по канавке домой, волоча за собой располосованный пиджак. На стороне сотьстроевцев оказался и тот рослый черемисин, памятный собеседник инвалида; стремясь остудить дикарский пыл распри, он принялся разметать бойцов по сторонам… и вот долгоногая кузёмкинская халда понеслась по деревне, стуча в окна и трубно крича:
— Бяжите, люди, бяжите… хреновья старые, бяжите… все бяжите! Татаре наших бьют…
Количество сражающихся сразу увеличилось на треть и ячейке ничего не оставалось, кроме как вызвать конную милицию с Сотьстроя. Тут вернулось макарихинское стадо; напуганный скот шарахался в проулки от суматошного людского клубка. Тем временем конники с лихостью бури наскочили на деревню, но, не имея точных предписаний: разить ли, уговаривать ли, растерянно внимали хрипенью бойцов. Вдруг раздался странный скрип, точно на всём ходу остановилось маховое колесо; было так, словно выстрелили в толпу толстым чугунным словом. «Убили!..»
Был жалкий всхлип:
— Всем отвечать, всем… гражданы, всем!
Толпа пятилась и расступалась от места, где должен был лежать поверженный человек, но ничего там не было: только рядом с раскрошенным фаддеевым коньком чертил пыль сереньким крылом затоптанный курёнок. Ужасная трусость охватила всех, и тогда-то Мокроносов, пользуясь временным замешательством, приступил совместно с милицией к арестам; предоставляя суду впоследствии разобраться в виновности каждого, он брал почти без разбору, — только вглядывался в лицо подозреваемого и по какой-то сокровенной дрожи в глазах угадывал преступника. Никто не возражал ему; временно, до расправы, их отвели в клуб, дали воды и хлеба, а пол застелили соломой, чтоб спать.