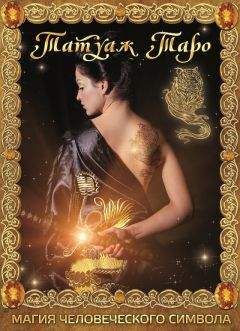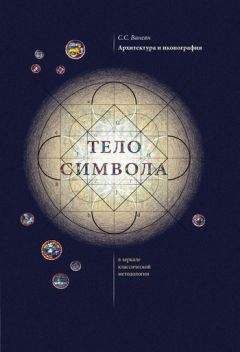Мартин Макдонах - Человек-подушка
Катурян кивает головой, но видно, как силы покидают его.
Они натравили собак, не иначе. Понимаешь, эти ищейки все разнюхали… Они натравили их. Потому что я блестяще их спрятал. В землю для рождественской елки. Нам нужна она только раз в году.
Катурян. Ты же сказал мне… Ты же мне только что сказал, что не трогал этих детей. Значит ты солгал мне.
Михал. Нет, я не солгал. Я только сказал тебе, что ко мне пришел человек и сказал, что будет пытать меня до тех пор, пока я не скажу, что убил этих детей. И я сказал ему, что убил их. Но это не значит, что я не убивал этих детей. Как раз я их и убил.
Катурян. Ты поклялся мне своей жизнью, что не убивал этих трех малышек.
Михал. Ой, ну слушай, когда ты сказал: «Поклянись своей жизнью, что не убивал детей», мне показалось, это была такая игра. Шутка! Прости, Катурян.
Катурян от неожиданности обрушивается на матрас.
Я знаю, я поступил плохо. Поверь. Но мне было ужасно интересно. Маленький мальчик был именно таким, как ты мне его описывал. Когда я отрезал ему пальцы, он даже не закричал. Он просто сидел и смотрел на них. Он был очень удивлен. В его возрасте это невозможно понять. Его звали Аарон. На нем была смешная маленькая шапочка, и он все время лепетал о своей маме. Боже мой, как много крови из него вылилось! Это просто невозможно себе представить, сколько крови может быть в такой малышке. Потом вдруг она перестал течь и мальчик стал синеть. Бедный. Я почувствовал себя очень плохо в этот момент, а он был в этот момент прекрасен. «Я хочу к маме, пожалуйста, отпустите меня». А зато девочка была как зуд в попке. Она кричала так, что, казалось, у нее глаза выпадут из глазниц. Она не хотела их есть. Она не хотела есть яблочных человечков, а я так долго их готовил. Очень трудно засунуть туда бритвы. Ты ведь не написал, как правильно готовить яблочных человечков, елки-палки. Я проверил их на ней. Мне в конце концов все-таки удалось в нее их засунуть. Ей хватило двух. Не для того, чтобы умереть, а чтобы она хотя бы замолчала. (Пауза.) Тебе тяжело в этой рубашке? Ты весь в крови. Завтра постирай ее. Хотя тебе придется хорошенько постараться. Вот увидишь: с ней надо будет повозиться. (Пауза.) Катурян? (Пауза.) Я сам ее постираю завтра, если ты хочешь. Я очень хорошо это делаю.
Катурян. (пауза, тихо) Зачем ты это сделал?
Михал. Что? Я не слышу.
Катурян. (плачет) Зачем ты это сделал?
Михал. Не плачь, Катурян. Не плачь.
Михал подходит к нему, чтобы поддержать его. Катурян в отчаянии отстраняется.
Катурян. Зачем ты это сделал?
Михал. Ты же знаешь. Ты попросил меня об этом.
Катурян. (пауза) Что-что?
Михал. Ты попросил меня об этом.
Катурян. (пауза) Я помню, что просил тебя делать вовремя домашнее задание. Я помню, что просил тебя чистить зубы по вечерам…
Михал. Я чищу зубы по вечерам…
Катурян. Но я не помню, чтобы я просил тебя красть маленьких детей и мучить их с особой жестокостью.
Михал. Я не мучил их с особой жестокостью. «С особой жестокостью»… Мне кажется, это больше напоминало…
Михал показывает, как ожесточенно разрубает кого-то.
Это больше было похоже на…
Михал показывает, как он одним резким движением отсекает воображаемые пальцы и затем изящным движением выбрасывает их.
Или на…
Михал показывает, как он засовывает в рот девочки два яблочных человечка и заставляет ее проглотить их.
«С особой жестокостью». Это слишком. Я ничего не делал, о чем бы ты меня не просил, так что, знаешь, не изображай, пожалуйста, невинного младенца. В каждой твоей истории с кем-нибудь случается что-нибудь ужасное. Я всего лишь проверял, настолько они реалистичны. Потому что мне всегда казалось, что некоторые из них совсем не похожи на правду (Пауза.) Но знаешь? Вот, что я понял: некоторые из них вполне реалистичны.
Катурян. Но почему же ты не захотел разыграть одну из моих добрых историй?
Михал. Потому что ты таких не пишешь.
Катурян. Ну почему? У меня таких много.
Михал. Ну… да… две.
Катурян. Так я тебя спрашиваю, почему же ты не захотел разыграть одну из моих добрых историй?
Михал. Ну хорошо.
Катурян. Знаешь почему? Потому что ты садист, мелкий гадкий психованный извращенец, которому нравится убивать детей. Каждый мой рассказ был плодом моего доброго сердца, и, черт тебя побери, у тех, кто их читает, они должны вызывать точно такие же ответные чувства.
Михал. Конечно… Но мы никогда бы не узнали это, если бы не попробовали. (Пауза.) Мне не понравилось убивать детей. Меня это раздражало. Это было так мучительно долго. И я совсем не собирался убивать этих детей. Я хотел всего лишь отрезать пальцы у мальчика и заставить девочку съесть лезвия.
Катурян. Ты хочешь сказать, что ты этого не знал: если отрезать пальцы у мальчика и заставить девочку съесть лезвия, то они умрут?
Михал. Вот теперь знаю.
Катурян берет его голову в свои руки, как бы пытаясь понять хоть что-нибудь.
Человек, который меня пытал, кажется, на моей стороне. Он говорил, что это целиком твоя вина. Ну все-таки… в основном, твоя.
Катурян. (пауза) Что ты сказал ему?
Михал. Правду.
Катурян. Какую конкретно правду?
Михал. Я сказал ему: все, что я делал с детьми, я взял из рассказов, которые ты писал и потом читал мне.
Катурян. Ты это сказал следователю?
Михал. Да. И это было правдой, ты же знаешь.
Катурян. Это не правда, Михал.
Михал. Правда.
Катурян. Нет.
Михал. Признайся, ведь ты писал рассказы о том, как убивают детей?
Катурян. Да, но…
Михал. Ты читал их мне?
Катурян. Да…
Михал. Теперь скажи, должен ли я был после всего этого выйти на улицу и убить целую кучу детей? (Пауза.) «Да, конечно», – вот самый правильный ответ. Поэтому я не понимаю, когда ты говоришь мне: «Это неправда». И не надо говорить мне, что я отморозок и извращенец. Просто ты мой брат и я люблю тебя. Ты только что двадцать минут рассказывал мне историю про парня, главная цель в жизни которого – сжечь как можно больше детей на костре. Это твой герой! И я сейчас не критикую тебя. Он превосходный герой. Он превосходный герой. Он напоминает мне меня самого.
Катурян. Чем это он тебе себя напоминает?
Михал. Ну хотя бы тем, что он тоже убивал маленьких детей. Хотя бы этим.
Катурян. Человек-подушка никогда никого не убивал, Михал. Умершие дети все равно бы окончили жизнь в страшных мучениях.
Михал. Ты прав. Эти дети были обречены. И их можно было огородить от страданий.
Катурян. Но не всем детям уготована ужасающая жизнь.
Михал. Ну да, ну да… Была ли твоя жизнь ужасающей после того, как ты перестал быть ребенком? Наверное, да. Были ли моя жизнь ужасающей после того, как я перестал быть ребенком? Наверное, да. Два из двух. Для начала.
Катурян. Человек-подушка был славным парнем, серьезным, думающим. Он ненавидел то, чем занимался. Ты его противоположность. Причем, Михал, во всех отношениях.
Михал. Хорошо, я знаю, что я противоположность со знаком «минус», но я понимаю, к чему ты клонишь. Спасибо тебе. (Пауза.) «Человек-подушка» – это хороший рассказ, Катурян. Один из лучших у тебя. Когда-нибудь ты станешь знаменитым писателем, я верю в тебя. Господь тебя благословил. Я предвижу это.
Катурян. (пауза) Когда?
Михал. Чего?
Катурян. Когда я стану знаменитым?
Михал. Когда-нибудь, я же сказал.
Катурян. Они расстреляют нас через полтора часа.
Михал. Ах, да… Теперь ты уже никогда не станешь знаменитым.
Катурян. Они теперь все уничтожат. Они уничтожат нас, они уничтожат мои рассказы. Они все уничтожат.
Михал. Мне кажется, мы, прежде всего, должны думать о себе, а не о твоих рассказах, Катурян.
Катурян. Да-а?
Михал. Да. Это всего лишь бумага.
Катурян. (пауза) Всего лишь что?
Михал. Всего лишь бумага.
Катурян резко хватает Михала за волосы и лбом бьет о каменный пол. Обескураженный скорее поступком брата, чем болью, Михал ощупывает голову, видит кровь.
Катурян. Если сейчас они придут ко мне и скажут: «Мы уничтожим две вещи из трех: тебя, твоего брата или твои рассказы. Выбирай», то сперва я отдам им тебя, потом себя, но сохраню свои рассказы.